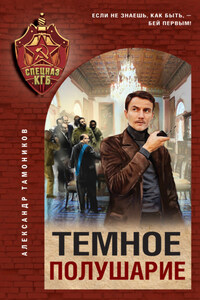Грубый мужской голос безо всяких этих «здравствуйте, у вас найдется две минуты?» – значит, с Ангелом снова стряслось что-то страшное, а вестники скорби сентиментальничать не любят. Но я давно научился, заледенев от ужаса, изображать невозмутимость, с детства мечтал, не дрогнув выслушать смертный приговор.
– Слушаю вас.
– Это охрана с Малой Т-р-р-р…, вы имеете отношение к т-р-р-р-десят девятой квартире?
– Да, там живет мой сын.
– Соседи жалуются, что давно его не в-р-р-рдели, а из квартиры т-р-р-рашная вонь.
– Спасибо, сейчас проверю.
– Только не тяните, сами т-р-р-дите, какая жара.
– Не беспокойтесь, сейчас выхожу.
Чем кошмарнее и безобразнее ситуация, тем безупречнее мои манеры, вышколил я себя, вышколил.
Господи, даст он мне когда-нибудь подохнуть спокойно?!
И в самом деле, еще эта жарища, как назло…
Я старался заглушить ужас злостью, внушить себе, что случилось что-то страшное в пределах его обычной нормы, а страх за него – это мой будничный хлеб последних лет тридцати, и я старался притвориться, будто я зол лишь на то, что придется переступить порог его ненавистного бомжатника, в который он превратил нашу с Колдуньей уютную двушку, когда-то приютившую великого Сказочника, а потом еще и Владыку снов. Про себя и Колдунью уже молчу: мое назначение – служить потомству духовной пищей, а у Колдуньи просто такой инстинкт – всюду наводить уют, чистоту и красоту, так что ни благодарности, ни снисхождения мы не заслуживаем. Не больше, чем корова за молоко из ее вымени или за бифштекс из ее ляжки.
Поэтому наш раздвижной стол, за которым устраивалось столько веселых пиршеств, сплавлен каким-то уродам, а полированную стенку, когда-то подаренную на новоселье моими любимыми папочкой и мамочкой, мой драгоценный сыночек изрубил топором в порыве мести, возможно, мировому мещанству, а может быть, и лично мне.
Топор, кстати, был тот самый, которым я когда-то на северных шабашках нарубил столько капусты для своего маленького, но дорогого семейства. Я тебя породил – ты меня и убьешь.
Квартирку нашу мой наследник превратил в свинюшник, пожалуй, уже не столько по высокоидейным мотивам, сколько по как бы рациональным: микробы заводятся в органических отходах, а неорганическая грязь – она и не грязь вовсе, а такое же вещество, как земля, песок, – на природе же они никому не мешают?
Но все-таки, пока у нас хватало денег на уборщицу, у него было сравнительно пристойно, зато после финансового краха облака пухлой пыли вдоль плинтусов наросли по щиколотку, ржавые камуфляжные узоры разлитой пепси-колы на паркете понемногу окаменели и даже не прилипали, а у мебельной мелочовки типа кресел-тумбочек, полуразрушенных регулярными падениями хозяйского тела, все хрупкое отломилось, наступила стабильность.
Среди этих руин целая стена музыкальных дисков до самого страшного финала пребывала в изумительном порядке. Музыка оставалась единственным, что он сохранил из прежней жизни. Он знал до последней нотки не только Моцартов-Бетховенов общего пользования, но питал еще и особенную нежность к Мусоргскому и умел ценить всяких Мессианов-Онеггеров, и для меня всякий раз было внезапной радостью, когда он вдруг вспоминал кумиров моей юности, к которым я когда-то его приохочивал: «У Штоколова правда великолепный голос». «На пластинке. В зале слабоват», – не хотел я так уж сразу принимать этот комплимент. Но мне и в голову не приходило возмущаться тем, что композиторы должны сочинять музыку для кино, аж дым валит из ушей, а все бабки достаются исполнителям. Он действительно что-то в них прозревал, во всяких Вебернах, а композитору Тищенко однажды самолично вручил букет на сцене Большого зала еще Ленинградской в ту пору филармонии. Чтобы Ангел купил цветы, а потом еще и вылез на всеобщее обозрение, нужен был стимул космического масштаба, но он ведь и жил в космосе. Чего у него не отнимешь – он всегда не терпел фальши, до изуверства. Я сам чистоплюй, но он далеко меня переплюнул. Он не стеснялся после Баха, блаженно жмурясь, замурлыкать: «Малиновки заслышав голосок…».