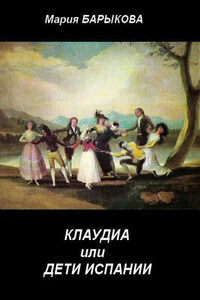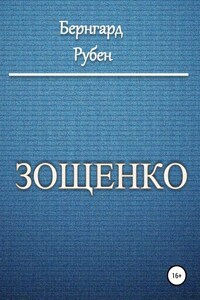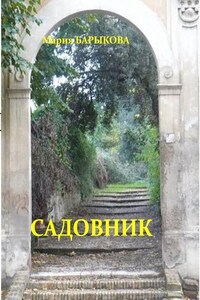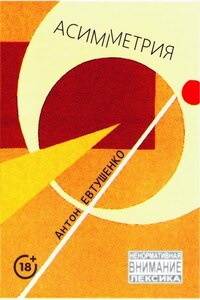Моему мужу, сделавшему нашу жизнь – судьбой.
«Семейные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа»
Александр Пушкин
«Аще требует враг злата – дадите; аще ризу – дадите; аще почести – дадите; аще веру хочет отъяти – мужайтесь всячески…»
(федосеевцы против филипповцев)
Новости доходили до этого медвежьего уголка Псковского края не раньше, чем через неделю, да и то, если не заболевал почтальон и оставалась проходимой дорога. А уж до усадебного дома, отделенного от деревни ручьем и двумя белыми резными мостиками, и того позже. Дом, покрашенный сиренево-розовой краской, вечерами словно парил над холмом, над ольховыми лесами, прозрачными даже летом, над жалкими полями – и улетал еще дальше по течению реки куда-то к древним эстляндским землям. Но эта призрачность и легкость не мешали дому оставаться вполне земным, долгими весенними вечерами призывно светиться огнями в столовой и гостиной, летом – мерцать свечами и жужжать оживлением голосов на террасе, а зимой – парить серебристым дымком, поднимающимся из широкой трубы. Однако несмотря на все это человеческое тепло, широким потоком текущее с холма в деревню, местные не любили этот дом. Они как-то инстинктивно побаивались его и чуждались. Ночные светляки его лампадок никого не могли заставить забыть, как дом самым непонятным образом остался цел и в жаркие годы революции, и – больше того – в страшное время последней войны. Еще жили в деревне старухи, которые помнили, как прозрачным осенним утром сорок первого года на холм, натужно гудя, поднялся немецкий мотоцикл, из которого затем выпрыгнул сверкающий черной кожей, как латами, немецкий офицер. Однако вместо того, чтобы пинком раскрыть двери, офицер этот снял высокую фуражку и учтиво коснулся рукой в перчатке стекла дверей парадного входа. Стекло в ответ отозвалось чистым пронзительным звуком, пролетевшим над всей деревней и замершим в бескрайних болотах каким-то безотчетным всхлипом. А через десять минут немец вышел из дома с печальной улыбкой на лице, немного постоял на террасе, где ветер путал его белокурые волосы, и затем, бесшумно скатившись с холма, скрылся в лесу, словно его здесь никогда и не было. И больше, никто не видел здесь ни фашистов, ни даже зверствовавших по всей округе полицаев. Но это странное событие, спасшее деревню от разорения и гибели, навело на ее жителей не благоговение, а какой-то подлинно мистический страх. Страх перед его странной хозяйкой, бывшей фрейлиной Ее Величества Императрицы Александры Федоровны…
Но это были дела, можно сказать, давно минувшие и мало кому известные. Ныне же у деревни к дому имелись претензии и посвежее, пусть и не столь внушительные. Дому не могли простить ни его постоянных гостей, ни горящих лампад, ни – самое главное – все продолжающейся барской жизни даже через столько лет после революции. Действительно, все его восемь комнат, не считая огромной кухни, увешанной порыжевшими фотографиями надменных дам у не изменившегося с тех пор очага, продолжали жить так, словно не прошумели над ними долгие безбожные годы. Все так же в гостиной пел вечерами рояль, в бальной раздавался шелест платьев, в столовой кипели споры за рюмкой хереса, а в портретной понимающим взглядом смотрели со стен темные портреты…
Но эта непонятная, дикая для окружающих жизнь, была самой обыкновенной и естественной для жителей дома: стройной женщины с молодым лицом под седыми волосами и двух подростков. Как и почему они появились в доме, никто толком не знал, просто однажды Елизавета Николаевна вернулась то ли из Пскова, то ли из Ленинграда сначала с крошечной светловолосой девочкой, а спустя несколько месяцев утром на крыльцо вышел и мальчик чуть постарше. Оба сразу стали называть Елизавету Николаевну на английский манер Бетси, говорить ей «ты», а сами отзываться на диковинные имена Ляли и Лоди. Они носили полотняные матросские костюмчики летом, шубки, крытые малиновым бархатом – зимой, и в самой деревне почти не появлялись.