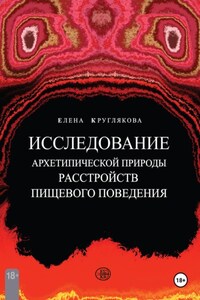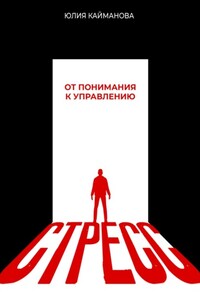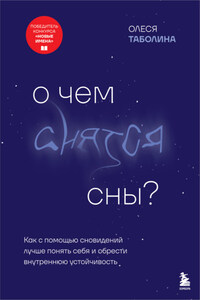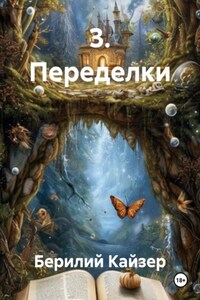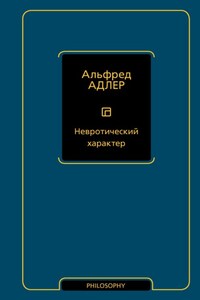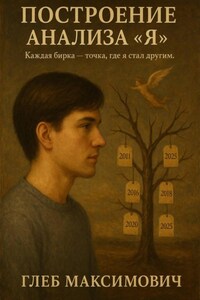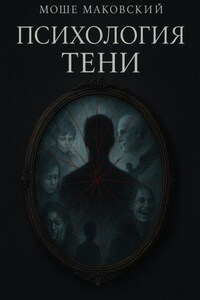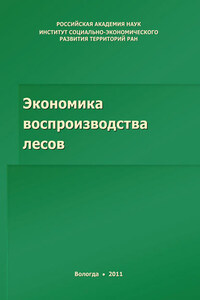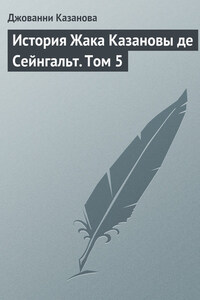г. Москва, 2023
Рецензенты:
Академик МАПН, доктор психологических наук, профессор В. В. Козлов
Академик МАПН, доктор психологических наук, профессор В. А. Мазилов
Введение
Возникшая во второй половине ХХ века проблема расстройств пищевого поведения, в первых двух десятилетиях ХХI столетия приобретает колоссальные масштабы, что связано с одной стороны с общим благополучием жизни и изобилием продуктов питания в частности, с другой стороны – транслируемым обществом образом успешного в социальном плане индивида, имеющего стройное, подтянутое тело, что в колоссальных масштабах тиражируется социальными сетями. Современная психиатрия, фармакология и поведенческие подходы в психотерапии подобных пациентов традиционно направлены в основном на снятие внешней симптоматики данных расстройств, зачастую не рассматривая глубинные причины возникновения заболевания, связанные с процессами, происходящими во внутрипсихической структуре человека в контексте его отношений с едой. В результате чего симптомы имеют тенденцию возвращаться либо менять локализацию.
Каждое расстройство уникально для своего носителя и зависит от того, какой будет констелляция всех значимых биологических, наследственных, биографических, культурологических, социальных, психологических, трансгенерационных и иных факторов и аспектов жизни, присущих данному конкретному индивиду от рождения и раннего детства до манифестации заболевания. Тем не менее, симптом может нести в себе универсальные смыслы, на глубинном уровне объединяющие пациентов в одну категорию, что позволяет рассматривать различные виды расстройств как следствие одних и тех же травматических событий.
С точки зрения психодинамических подходов в основе таких проявлений, как нарушенное питание, голодание, очистительное поведение, переедание, ожирение, гендерная дисфория, самоповреждающее поведение, одержимость кожей, ненависть к себе, перфекционизм, все виды зависимостей и многих других, речь идет о проблеме нарушенного бессознательного образа тела. Именно нарушенный образ тела является единой причиной данного спектра расстройств, что приводит в итоге к конфликту идентичности во всех своих многочисленных проявлениях. Фактически речь идёт о состоянии на границе невроза и психоза, неуверенности или полном отсутствии границ между Я психическим и Я телесным, Я реальным и Я идеальным, между тем, что зависит от субъекта и тем, что зависит от другого. Символические репрезентации данного симптома могут появляться в сновидениях, архетипических образах и фантазиях пациента, и на основе полученной в процессе терапии символической продукции можно строить предположения о внутреннем смысле заболевания. Таким образом, видимый физический симптом лишь представляет способ, посредством которого болезнь манифестирует себя, при этом истинной причиной расстройства является глубокий внутренний конфликт, скрытый в бессознательной части психики пациента, иными словами, симптом является дорожной картой, ведущей в глубины деструктивный природы заболевания, где на самом дне коренится стремление психики к большей дифференциации.
Исследование причин возникновения глубинного конфликта в психике пациента, приводящего к расстройству, является целью данной работы. В работе подробно рассматривается терапия РПП в юнгианском подходе, для чего читатель сначала знакомится с основными понятиями юнгианской глубинной психологии. Особое внимание уделяется изучению понятия комплексов как автономных психических структур, составляющих личное бессознательное индивида, в частности, родительских комплексов, так как определенная констелляция именно этих психических структур приводит к возникновению и развитию РПП. Юнгианский подход к исследованию проблемы РПП, а также терапии данного спектра расстройств был бы неполным без попытки осмысления архетипической природы данного глубинного конфликта, уходящего своими корнями в область коллективного бессознательного. С этой точки зрения предлагается рассмотреть проблему РПП как запрос на инициацию. На пути индивидуации человек проходит несколько этапов, причем этот процесс протекает нелинейно, а, как правило, через кризисы, для выхода из которых психике требуются определенные механизмы. Именно эту функцию призваны исполнять инициационные процессы, осуществляемые через ритуалы перехода. Если такой процесс по каким-либо причинам не состоялся, то затянувшийся кризис остается без разрешения и в итоге приводит к расстройству. В юнгианской терапии данный процесс происходит в пространстве терапевтических сессий, являющихся метафорой алхимической трансформации души. Проводимое терапевтом и пациентом в терапевтическом процессе совместное исследование и проживание того, в какой миф, сказку, символ, метафору или архетипический образ встроен симптом пациента, а также, как психическое нарушение, вызванное внутренним конфликтом пациента, проявляется на телесном уровне, может дать лучшее понимание динамики возникновения расстройства и привести пациента к осознанию смысла симптома и следующему вслед за этим принятию вызывающих конфликт низших и наиболее отвергаемых аспектов себя, и, в итоге, к исцелению.