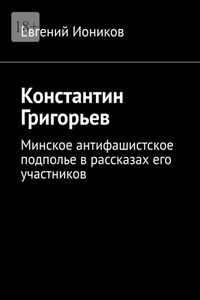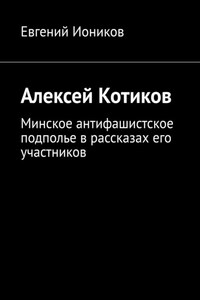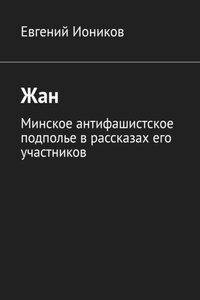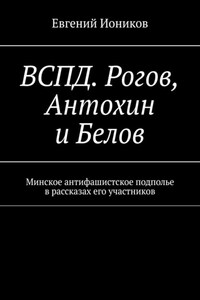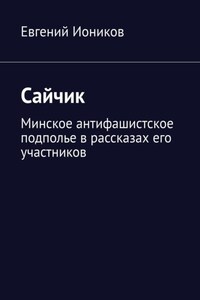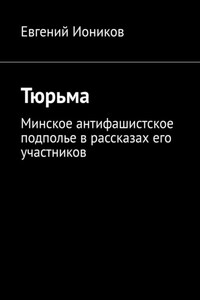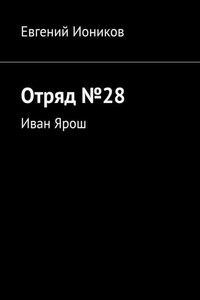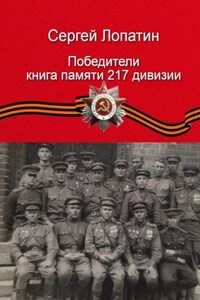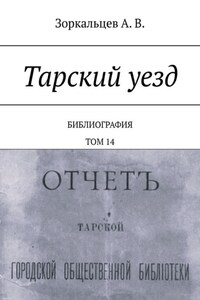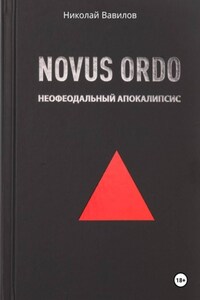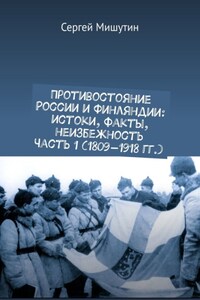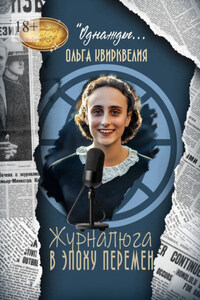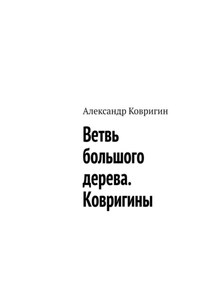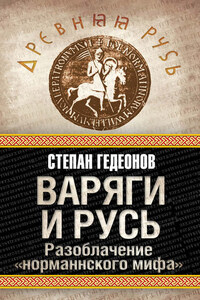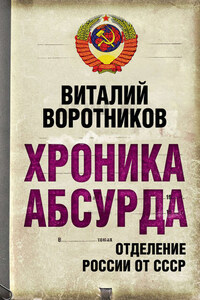Из двенадцати членов подпольного комитета, действовавшего в Минске на начальном этапе оккупации (1941 – 1942 гг.), войну пережили двое: Алексей Котиков и Константин Григорьев. Вопрос о судьбе еще одного участника событий, Ивана Ковалева, отчасти остается открытым: многие историки придерживаются мнения о его гибели в январе 1943 года в Тростинце или, возможно, на стадионе «Динамо»; впрочем, и старая версия (Ковалев, будучи арестованным, не выдержал пыток и стал сотрудничать с оккупантами, был вывезен в Германию, где следы его затерялись) жива до сих пор, подробнее об этом мы расскажем в очерке Иван Ковалев.
Котиков и Григорьев тоже хлебнули горя. Оба в свое время были арестованы органами НКВД/НКГБ (в декабре 1942 года Котиков, в сентябре 1944 Григорьев), получили сроки (15 и 5 лет соответственно), 27 марта 1956 года Григорьев был реабилитирован1, Котикову же в реабилитации отказали, но срок заключения снизили до 10 лет; впрочем, к тому времени он был уже освобожден по амнистии2. При этом, как утверждала детально исследовавшая события тех лет Вера Сафроновна Давыдова, обвинения против Григорьева строились в том числе и на свидетельствах Алексея Котикова, который на своих допросах давал на него клеветнические показания3.
В частности, на состоявшемся 8 мая 1946 года в МГБ БССР допросе Котиков заявил, что Григорьев после мартовских 1942-го года арестов от работы в подполье самоустранился и перестал выполнять отдаваемые ему задания. Он прекратил скрываться, легализовался, даже не менял фамилии и адреса своего проживания, несмотря на то, что был известен многим предателям и агентам гестапо4.
Первоначальная реакция подполья на этот его демарш была однозначной: Григорьев струсил. На одном из заседаний подпольного комитета был даже поставлен вопрос о его уничтожении, но потом, по словам Котикова, подпольщики «… посмотрели – вреда не приносит – оставили»5.
Процитированные показания Алексея Котикова не содержали клеветы. На одном из первых (если не на первом) своих допросов в НКГБ БССР (архивная копия документа датирует его 23 июня 1944 г., чего не могло быть по определению; вероятно, допрос состоялся 23 июля 1944 года) Константин Григорьев и сам подтвердил, что после нанесенного в марте 1942 года удара он утерял связь с подпольем и легализировался6, а на уточняющиие вопросы следователей отвечал, что все годы оккупации проживал по адресу, по которому был прописан (Чкалова, 58), но арестован не был7.
Впрочем, как это часто бывает, повлиявшие на его судьбу события разворачивались намного драматичнее, чем это видно из протоколов его допросов, рассказов бывших соратников и исследований историков послевоенных лет.
Константин Денисович Григорьев родился в 1895 году, с 1909 по 1914 годы работал на Путиловском заводе фрезеровщиком. В июле 1914 года за участие в забастовке был осужден к 9 месяцам тюремного заключения. Весь 1915 год работал на Балтийском заводе, а в 1916-м был призван в армию, в которой состоял рядовым до 1918 года. С 1918 по 1923 год находился в Красной Армии, правда службу проходил вне строя, работал фрезеровщиком в армейских радиомастерских. В 1919 году вступил в партию. С 1923 по 1932 г. жил в Казани, где занимал ряд руководящих должностей в системе Главнефтесбыта. Позже отучился в нефтяной Промакадемии имени Кирова в Баку, после окончания которой в 1936 году Наркоматом нефтяной промышленности СССР был направлен в Минск. Здесь он получил должность управляющего Белорусской республиканской конторой Главнефтесбыта8.
Занимая этот пост, он в свое время принимал на работу Исая Казинца