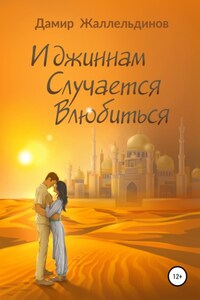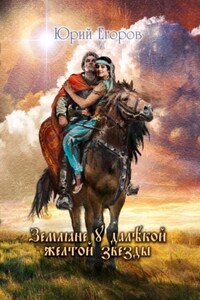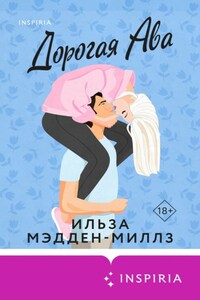Красные герои
Максиму четырнадцать лет. Он единственный ребёнок состоятельных родителей и привык к комфорту столичной жизни. Мальчика совсем не радует перспектива провести целый месяц в деревне вдвоём с нелюбимым дедушкой. Но события развиваются непредсказуемо: его деда, бывшего учёного, похищают американские шпионы, чтобы получить доступ к секретному советскому проекту по созданию команды супергероев. Стремясь опередить их и спасти родного человека, Максим в одиночку отправляется в рискованное путешествие.
| Жанры: | Научная фантастика, Книги о приключениях, Современная русская литература |
| Цикл: | Не является частью цикла |
| Год публикации: | 2023 |
Читать онлайн Красные герои
Книга заблокирована.
Вам будет интересно