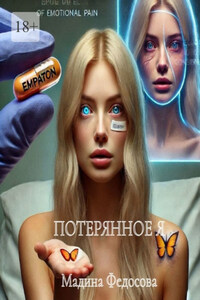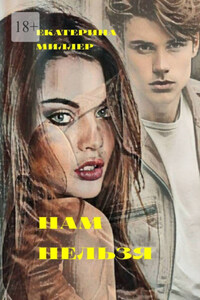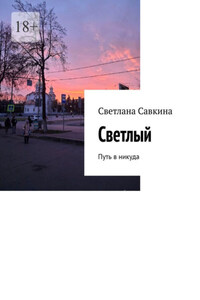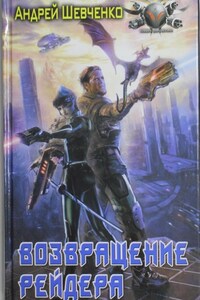Курить во дворе универа, сбившись в стайки, – так себе традиция. Возможно, я терпеть её не могу, потому что у самого никогда не было компашки. Здесь никто меня не терпит, смотрят заносчиво и презрительно, или вовсе не замечают. Кто я для них? Неудачник, мусор под ногами. Иногда кажется, жизнь – полный отстой, и только умеет, что поворачиваться к тебе задницей. Усмехаюсь, закуриваю. Незнакомая стайка стоит недалеко, до меня доносится гогот. Здесь тошно, да, здесь всегда было тошно – мне и не хотелось сюда поступать. Хотелось на режиссёрский. Я лежал каждый вечер и фантазировал: вторая камера по центру, третий дубль, стоп, снято.
Во двор выходит Славка. На самом деле, Ярослава, конечно, но Славка ей больше подходит – короткая стрижка, рубашка с закатанными рукавами, брюки с подтяжками. Пацанёнок. Улыбается, идёт мне навстречу. Славка не курит, никогда не курила – и смотрит на меня каждый раз с раздражением. Вот опять.
– Ты же обещал бросить, – говорит она с укоризной.
– Мало ли, что я кому обещал, – во рту горько, на душе противно.
Она выхватывает у меня сигарету, делает одну длинную затяжку. Нет, Славка не курит, но вот так любит иногда – выхватит отраву из пальцев и давай.
– Славочка, верни, – тяну я.
Она возвращает сигарету, выпускает дым из рта. У неё красивый рот. Был бы я художником, обязательно бы нарисовал. Или написал, как правильнее?
– Славочка, скажи, – сигарета тлеет между пальцами, – отчего люди не летают так, как птицы?
Она мрачнеет.
– Перестань, Паш, хватит. Тебе нельзя в этом вариться.
Безусловно, нельзя, но я варюсь. Тупая школьная программа – въестся в мозг, колом не вышибешь. И это, кажется, тоже цитата. Тьфу. Я помню, с братом ходили на «Грозу». Нормальные люди – с классом, а я – с братом, так веселее, привычнее. Я сидел, вжавшись в кресло, всю пьесу зевал от скуки, а в конце вдруг страшно стало, и Гоша хохотал над моим выражением лица. Смешно, Гоша, непременно смешно. Я помню, как ты летел. Даже меня тебе не было жаль.
– Паш? – зовёт Слава, заглядывает в глаза.
Заботливая.
– Здесь я, – сигарета летит в урну.
Соседи по курилке снова заходятся гоготом. Я кривлюсь.
– С какого они факультета, как думаешь?
– Идиотического.
– Здесь нет такого.
– Я бы поспорила.
Мы со Славой на лингвистике, гордость, так сказать, всея университета. Слава на английском болтает задорно и до сих пор хохочет, что в десятом, ещё в школе, ей поставили тройку – за американский акцент.
– А мне всё равно было, из принципа не уступила бы старой мымре.
– Почему, Слав?
– В мелочах прогибаться начнёшь, потом всегда будешь плясать под чужую дудку.
Слава всегда права, с этим я даже не спорю. А я прогибаюсь. Потому что выхода нет. Живу с отцом и пляшу под его дудку каждый раз, видя в нашей квартире очередную Венеру Милосскую. Венера потряхивает яблоками раздора, от чего немедленно возникает рвотный рефлекс, и променируется мимо. Я сглатываю подступившее к горлу и притворяюсь, что ничего не происходит. Нет, это всё лучше, чем с матерью. После смерти брата у неё появился этот несчастный, потерянный взгляд, и она всегда теперь смотрит на меня так, будто я могу помочь. Она всегда была странным существом, а теперь и вовсе – сумасшедшая. Её любовник с крысиными глазками и редкой бородкой – честное слово, лучше на яблоки раздора любоваться! – вымогает у неё деньги неизвестно на что. Я попытался как-то ей намекнуть, мол, хватит, может быть, позволять ему сидеть на шее – так нет! Он же единственный её понимает, поддерживает в трудную минуту. Без комментариев. В общем, с матерью у нас окончательно всё разладилось, словно после похорон старшего сына младший для неё тоже перестал существовать. Я прихожу к ней раз в месяц, чтобы окончательно не перерубить ниточку. Хотя иногда кажется, что стоит это сделать.