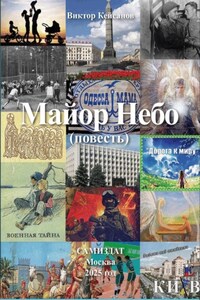ПОЭТ
Последней в автобус взгромоздилась с несколькими сумками старая неуклюжая тётка, впрочем, вида вовсе небомжиного, а вполне себе чистенько одетая, правда, в одеждах, как казалось, времён революций. Она наклонилась к окошку водительницы автобуса и начала что-то спрашивать, выяснять, доедет ли она туда, куда ей надо. Но то ли она была глуховата, то ли не понимала ответов, только она всё переспрашивала и переспрашивала, а автобус, таким образом, не трогался с места. Пассажиров было не много и не мало, и все терпеливо с пониманием ждали, когда бабулька наконец въедет в суть ответов водительницы, и транспорт направится вперёд по заданному маршруту. И в этой мирной, но слегка досадной картинке вдруг резким оглушительным треском взорвался посреди общего терпения отвратительно мерзкий по тембру и звуку мужской голос, от которого сразу захотелось заткнуть уши. Дядька был лет около 50-ти, цивильно одетый и цивильного вида, с чем никак не сочетался его пронзительный крик давно вымершего птеродактиля.
Боже, как мерзко он заголосил, он орал, что бабке, дескать, не мешало бы заранее выяснить, куда и на чём ей ехать, что она, старая карга, всех теперь задерживает, что водительница автобуса не должна столько времени тратить на ответы идиоткам, что все терпеливо молчащие пассажиры такие же идиоты, что сталина на них на всех нет, что расстреливать бы давно пора через одного без разбора и ещё много-много вылетало дерьма из его цивильной с виду, раззявленной пасти. Какие-то граждане пытались вступиться за бабульку, но это только ещё хлестче заводило птеродактиля, который от этого клацал ещё яростней и ещё больше исторгал из себя вони, даже и тогда, когда автобус уже поехал, а бабулька мирно уселась, крутила головой и не понимала, из-за чего тут крик, что происходит. И пока ехали дальше, всё это бурление-извержение продолжалось: птеродактиль визжал и плевал поганой слюной, кто-то что-то кричал ему в ответ, и воздух в салоне сгустился от захлебывающейся, бурлящей ненависти, злобы, а лично мне больше всего хотелось смачно плюнуть цивилу в его разбухшую от злобы и красноты рожу – сдержалась…а, может, не стОило сдерживаться?
И вдруг стоящий лицом к окну и молчавший до сих пор парень лет 26-ти повернулся лицом к гражданам и, вовсе не обращая внимания на истекающего визгливой вонью дядьку, просто и спокойно сказал: «…А хотите я вам свои стихи почитаю?». И все, кто его услышал, посмотрели на него и – вдруг заулыбались, и сразу несколько человек сказали «…а почитай…», и он начал, причём он даже не пытался перекричать злобный визг, голос его был спокоен и не слишком громок, но его было слышно всем, кто стоял и сидел рядом и даже дальше, а читал он очень хорошо. И даже уже не мешал визг птеродактиля, которому уже никто не отвечал, к которому все оказались повёрнуты спинами, так что не было уже ни одного лица, обращённого в его сторону, в которое он мог плевать свою ненависть, и никто не заметил, на какой остановке он вывалился.
Парень читал прекрасно, без вывертов и кривлянья, и пусть стихи его не были виртуозными, пусть, но от них всем в тесном салоне автобуса стало отчего-то просто хорошо и светло, и люди перед выходом на своих остановках просили: «Парень, ну, давай ещё немного, давай, а то уже сейчас выходить…», тогда он смеялся и продолжал читать, и многие говорили ему «Молодчина, удачи тебе!». Входили, выходили, а он всё читал, и когда доехали до конечной у Репинского сквера, все наперебой сказали ему «Спасибо!», спаси, значит, тебя бог…Он засмеялся и ответил сразу всем, что сейчас тут у Шемякинского монумента сбор самостийных поэтов, и он приехал сюда читать свои стихи. Не знаю, слышал ли он прежде столько добрых слов и пожеланий в свой адрес, но я увидела столько счастья в его карих глазах и столько искренней, не изображаемой искусственно, доброты, что я чутьём поняла одно: кем бы он ни был, кем бы ни работал, он – истинный ПОЭТ, именно так, огромными буквами.