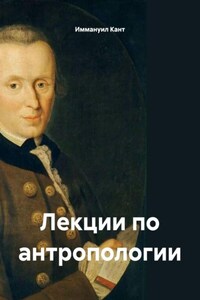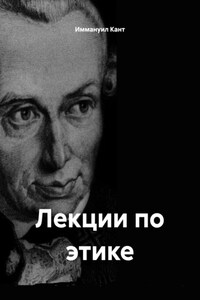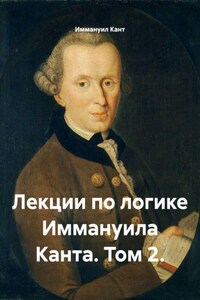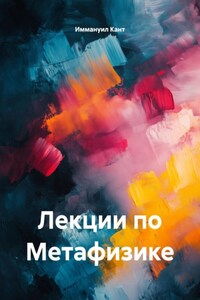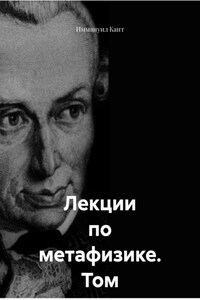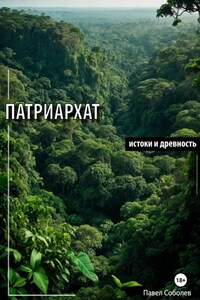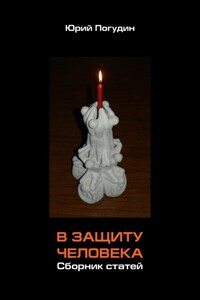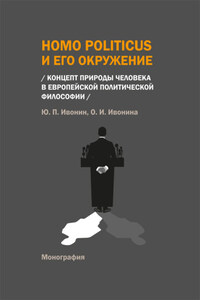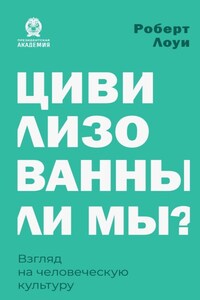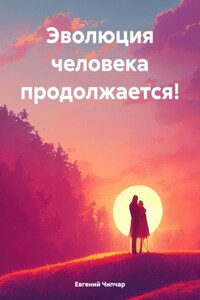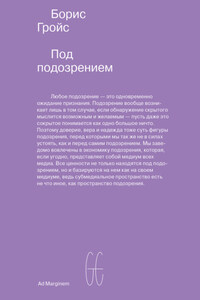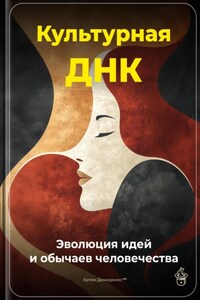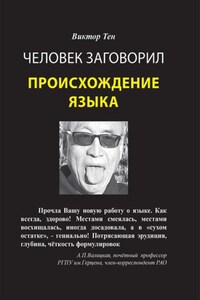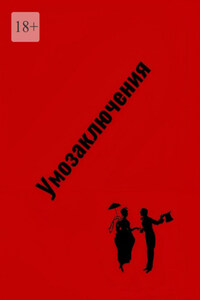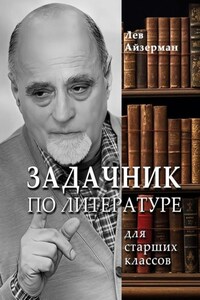А. Лекционный курс
I. Возникновение лекций по прагматической антропологии
В письме к Марку Герцу в конце 1773 года Кант пишет: «В этом зимнем семестре я во второй раз читаю частный курс по антропологии, который теперь намерен преобразовать в полноценную академическую дисциплину. Однако мой подход совершенно иной. Моя цель – раскрыть через неё источники всех наук: морали, искусства общения, методов воспитания и управления людьми, то есть всего практического. Здесь я ищу прежде всего феномены и их законы, а не первые принципы возможности изменения человеческой природы как таковой. Поэтому излишние и, на мой взгляд, навсегда бесплодные изыскания о том, как органы тела связаны с мыслями, полностью исключаются». Далее он добавляет: «В свободное время я работаю над тем, чтобы превратить это учение, которое мне кажется чрезвычайно увлекательным, в подготовительную дисциплину для академической молодёжи, развивающую навыки, благоразумие и даже мудрость. Вместе с физической географией она отличается от всех других предметов и может быть названа знанием мира» (X: 145–146).
Фраза «Однако мой подход совершенно иной» указывает на отличие от психосоматической антропологии Эрнста Платнера (1772), предназначенной для врачей и философов, рецензию на которую написал Маркус Герц и которая послужила поводом для этого письма. Но Кант также дистанцируется от своих первоначальных намерений, выраженных в первой лекции по антропологии зимой 1772/73 гг. Тогда он вовсе не стремился создать основополагающую дисциплину или подготовительный курс для всего практического, а скорее разрабатывал теоретическую эмпирическую психологию, или «естествознание о человеке», основанное на наблюдении и опыте. Этот сугубо теоретический подход соответствовал структуре лекций, опиравшихся на «Метафизику» Александра Готтлиба Баумгартена (4-е издание, 1757), где «эмпирическая психология» выделялась как особая дисциплина.
Освобождение эмпирической психологии от метафизики у Канта происходило в два этапа. Первый был связан с дидактическими соображениями и отчасти восходил к идеям Христиана Вольфа, который в «Подробном сообщении о своих сочинениях» объяснял, почему поместил эмпирическую психологию перед космологией: «Эмпирическая психология – это своего рода история души, доступная без изучения других дисциплин, тогда как рациональная психология требует знания космологии». Кант в своих ранних лекциях (например, в «Антропологии Коллинза») также подчёркивал, что изучение человека как особой науки избавляет от необходимости осваивать всю метафизику.
Второй этап был обусловлен диссертацией «О форме и принципах чувственно воспринимаемого и интеллигибельного мира» (1770), где Кант резко критиковал вольфовское смешение чувственного и рационального познания. С этого момента для него стало ясно, что метафизика не должна заниматься эмпирическим содержанием, а потому эмпирическая психология должна быть исключена из её состава. В «Антропологии Паров» (1772/73) он прямо заявляет: «Эмпирическая психология – это разновидность физики, изучающей явления внутреннего чувства, и потому она не может быть частью метафизики».
Однако термин «антропология» у Канта шире, чем «психология», поскольку охватывает не только душу, но и телесную природу человека. Со временем он всё чаще подчёркивает, что его антропология – не психология, а комплексное учение о человеке, включающее физиогномику, расы, народы и другие внешние аспекты.
Примечательно, что сам Кант никогда не использовал термин «философская антропология» – это позднейшее изобретение. Например, издатель Иоганн Адам Бергк (псевдоним Ф. К. Штарке) в 1831 году выпустил «Кантову науку о человеке, или философскую антропологию», ссылаясь на якобы утерянные при пересылке разделы об интеллектуальном удовольствии и неудовольствии. Однако ни одна из сохранившихся студенческих записей не содержит отдельного раздела на эту тему, а в «Антропологии» 1798 года эти вопросы рассмотрены в рамках раздела «О чувственном удовольствии». Таким образом, история о пропаже рукописи – не более чем рекламный ход.