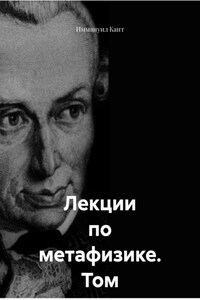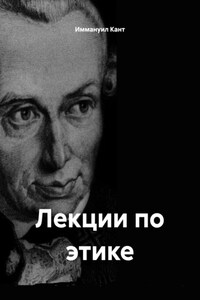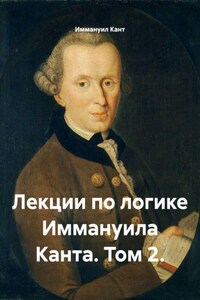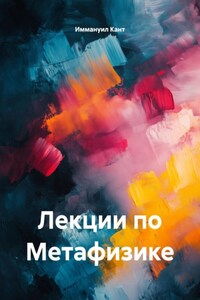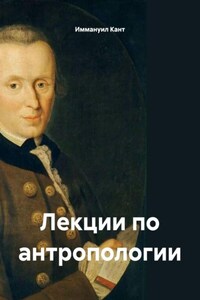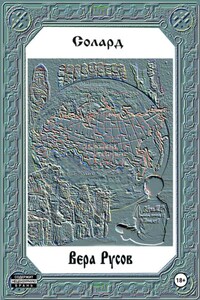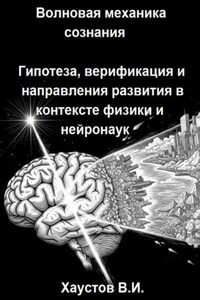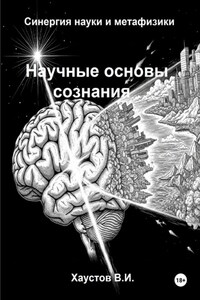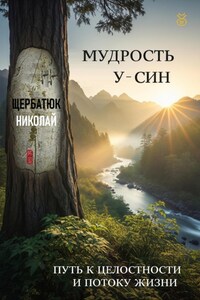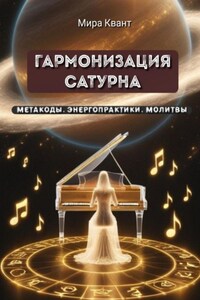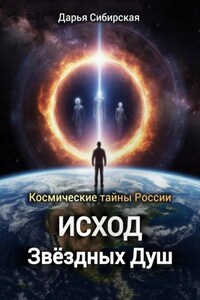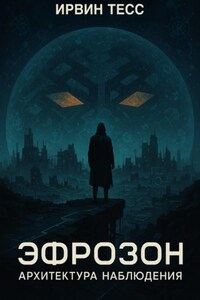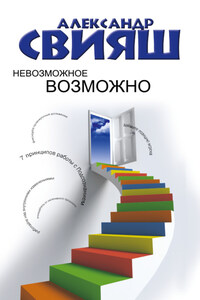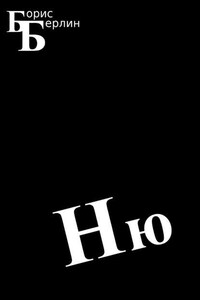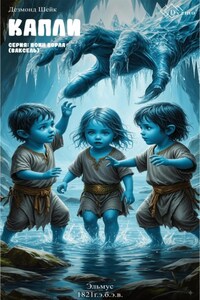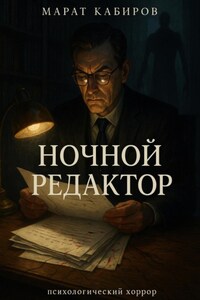Метафизика, изложенная профессором Иммануилом Кантом и записанная К. К. Мронговиусом. 4 февраля 1783 г.
Пролегомены к метафизике.
Наши познания пребывают в двоякой связи: во-первых, как агрегат, когда одно прибавляется к другому, дабы составить целое, например, песчаная горка сама по себе не представляет связи вещей, но они произвольно сложены (здесь нет ничего определённого); во-вторых, как ряд оснований и следствий, где части ряда именуются звеньями, поскольку мы можем познать одну часть лишь через другую, например, в человеческом теле одна часть существует через другую. Мы легко понимаем, что связь познаний как агрегата не даёт определённого понятия о целом, и это подобно тому, как я прибавляю один кусочек к другому, пока не возникнет гора и так далее, пока не образуется планета или земное тело – по крайней мере, мы можем мыслить это таким образом. В ряду же присутствует нечто, что осуществляет связь согласно правилу, а именно оснований и следствий.
При отношении оснований и следствий мы должны мыслить априорные границы, то есть основание, которое само не является следствием, и апостериорные границы, то есть следствие, которое не становится основанием, например, в человеческих поколениях: люди суть звенья ряда, и здесь мы должны помыслить человека, который, хотя и порождает, но сам не рождён, – следовательно, terminus a priori; и другого, который рождён, но никого не порождает, – следовательно, terminus a posteriori. Мы рассматриваем здесь (в метафизике) не вещи как таковые в их связи оснований и следствий, но познания, которые также происходят друг от друга, подобно людям или иным вещам. Я могу представить себе познание, которое не есть следствие, то есть высшее основание, и которое не есть основание, то есть конечное следствие.
Конечным следствием является непосредственный опыт, например: Нечто – тело – камень – известняк – мрамор – мраморная колонна.
Таким образом, у нас есть идея о связи познаний как оснований и следствий. Основания, которые обосновывают согласно определённому правилу, называются принципами (principia). Поскольку, следовательно, познания находятся в ряду, то должны быть и принципы. Примечательно, что я могу сделать следствие основанием, из чего, однако, не следует другое, но посредством чего я лишь пришёл к познанию другого. Следовательно, это не принципы бытия (principia essendi), но познания (principia cognoscendi), например, существование Бога я познаю из мира. Мир, однако, не есть основание Бога, но наоборот, но через мир я могу прийти к понятию Бога, и постольку я могу от обоснованного (principiata) идти к основаниям (principia) – следствия, которые используются как основания, чтобы идти обратно к своим основаниям, называются апостериорными принципами (principia a posteriori). Если я начинаю со следствий, то я познаю нечто апостериори; если я начинаю с оснований, то я познаю априори. Если мне нечто дано, я могу проверить, позна́л ли бы я это априори из оснований, например, что солнечный свет растапливает лёд, учит опыт; априори же мы вряд ли бы это позна́ли. Познание, взятое из опыта, является по преимуществу (κατ’ ἐξοχήν) апостериорным, и, если мы впредь будем называть познания апостериорными, мы всегда понимаем таковые, которые из опыта, поскольку опыт содержит конечное следствие нашего познания, к которому мы ищем основания из разума. Если мы принимаем опыт за принцип, то этот принцип эмпирический: например, «все тела тяжелы» (насколько мы их знаем), – учит опыт; мы можем принять это за принцип и сказать: поскольку все тела тяжелы, то из этого следует… Априорные принципы – это такие, которые не заимствованы ни из какого опыта. Есть ли таковые, должно быть вскоре исследовано.