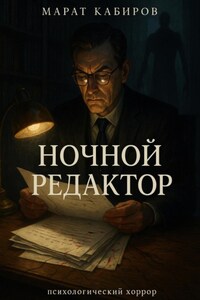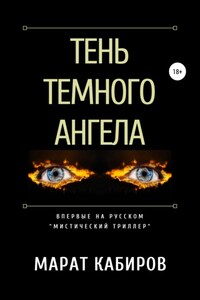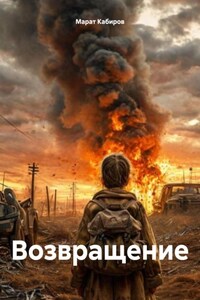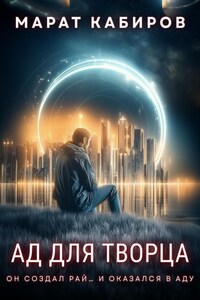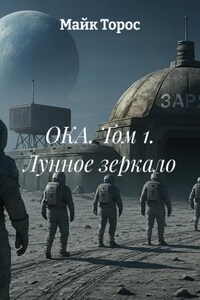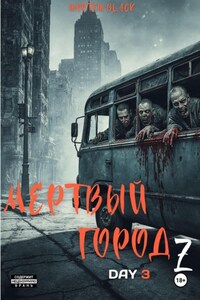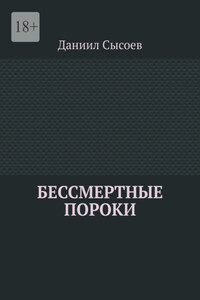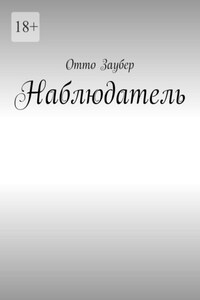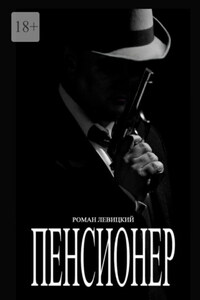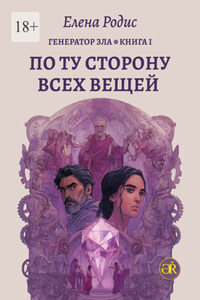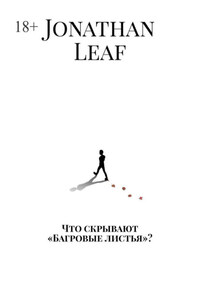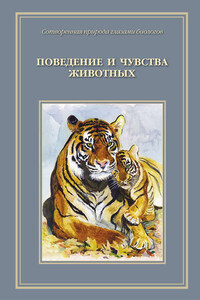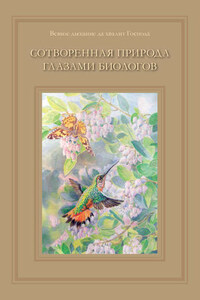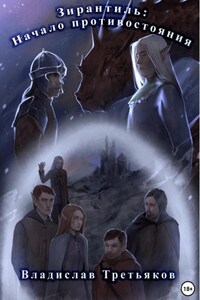Идеальная тишина в квартире Артема Воронова была не просто отсутствием звука. Он выстроил ее как крепость: стеклопакеты отсекали городской гул, идеальная мебель не издавала ни звука, а холодильник лишь тихонько гудел, вписываясь в общую атмосферу безмолвия. Эта тишина обошлась ему дорого, но он считал ее своей главной ценностью.
Он стоял у панорамного окна, наблюдая, как город зажигает вечерние огни – бесчисленные пиксели чужой, шумной жизни. Он держал в руке бокал «Гленфиддиха» – не дань моде, а холодный расчет. Сложный, но не подавляющий букет, отсутствие сладости. Идеальный напиток для ясности ума. Он сделал маленький глоток, позволив торфяному дымку осесть на языке, и развернулся к комнате.
Его царство. Его кремний. Пространство было выдержано в строгой серо-бежевой гамме, где единственными пятнами цвета были корешки книг в стеллажах от пола до потолка, расставленные не по алфавиту, а по степени личной значимости для него. Беспорядок был бы кощунством. Каждая вещь – кресло «Эймс», торшер «Арко», письменный стол из капового ореха – была выбрана не для уюта, а для демонстрации безупречного вкуса. Это была не квартира, а манифест. Манифест о том, что хаос можно укротить, если держать его на достаточном расстоянии и за большие деньги.
На столе, рядом с ноутбуком с матовым покрытием, лежала картонная папка. Конкурс «Полночные сказки». Его пригласили в жюри, польстив эго и щедро оплатив «время и экспертизу». Уголки его губ дрогнули в подобии улыбки. Экспертиза. Да. Он с удовольствием применит ее к этому потоку графомании, этому карнавалу дешевых пугалок и штампованных кошмаров.
Он поставил бокал на медную подставку – ровно туда, где от нее не оставалось кольца, – и взял папку. Вес ее был обнадеживающе невелик. Финалисты. Отобранные кем-то на его суд. Он чувствовал себя верховным жрецом, которому принесли дары. Или палачом, проверяющим остроту топора.
Ритуал требовал правильной атмосферы. Он щелкнул выключателем, оставив гореть лишь настольную лампу – дизайнерский объект, отбрасывавший идеальный конус света на столешницу, как прожектор на сцену. Все остальное тонуло в мягких, густых сумерках. Он устроился в кресле, кожа которого с тихим шелестом приняла его форму. Папка легла перед ним. Рядом – блокнот из плотной, кремовой бумаги и его любимая ручка «Montblanc Meisterstück» с пером F. Не шариковая. Шариковые ручки – для бюрократов. Перо скрипит, царапает, требует усилия. Оно оставляет след. Оно совершает насилие над бумагой.
Он открыл папку. Первая рукопись. «Вой в пустоте» какого-то Алексея Д. Артем фыркнул. Уже название – претенциозная чепуха. Он пробежал глазами первую страницу, и пальцы сами потянулись к ручке.
«Погода как персонаж, – пробормотал он, выводя на полях размашистый, уверенный почерк. – Клише номер один. У Кинга это выходило, у вас – нет. Следующий».
Красные чернила легли на бумагу, как капли крови. Он не просто читал – он вскрывал. Искал слабые места, неудачные метафоры, логические дыры. Его комментарии были безжалостны и точны: «Мотивация героя не раскрыта, а навязана», «Попытка шокировать вместо того, чтобы напугать. Дешево».
«Диалог деревянный, как сарай», – вывел он на полях и с удовлетворением подчеркнул свою мысль жирной чертой.
Он откинулся на спинку кресла, потягивая виски. Сегодняшний день был особенно плодотворным на желчь. Утром он закончил рецензию на сборник стихов молодой поэтессы. Текст дался ему легко, почти игриво. Он не просто критиковал – он проводил вивисекцию, с наслаждением вскрывая наивные попытки автора быть глубокой и пришпиливая их к картону язвительными формулировками. Его заключительная фраза – «Автор не просто не имеет права писать; но еще не дорос испытывать те чувства, о которых так неумело пытается рассказать» – казалась ему верхом профессиональной беспристрастности. Он не просто убивал текст. Он стирал право на его существование.