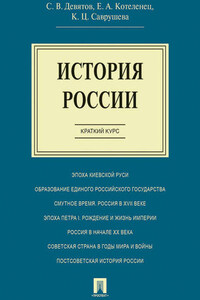… Гляжу в окно – под горою буйно качается нарядный лес, косматый ветер мнёт и треплет яркие вершины пламенно раскрашенного клёна и осин, сорваны жёлтые, серые, красные листья, кружатся, падают в синюю воду реки, пишут на ней пёструю сказку о прожитом лете, – вот такими же цветными словами, так же просто и славно я хотел бы рассказать то, что пережил этим летом.
В тихий и лесной Тумановский уезд, в деревню Высокие Гнезда я был направлен одним знакомым. Явился туда под видом дачника, имея паспорт на имя Егора Петровича Трофимова, третьей гильдии купца. Прошлое моё было таково: жил в Москве, имел бакалейную лавочку; когда – после переворота – начались эти экспроприации, я со страха в уме помешался, год с лишком в больнице лежал, а теперь ищу для отдыха уединённой жизни. Вдов, одинок на земле и душевно расстроен. Эта история сразу хорошо поставила меня среди мужиков, – человек разорённый, да ещё и полоумный – что тут интересного для них?
Снял я келью у старой девы, бобылки, за девять рублей до покрова. Несколько дён кряду походил по деревне, чтобы все видели, познакомился с урядником, напоил его чаем, попросил о защите, о внимании. Всё идёт хорошо, он меня покровительственно одобряет.
– Ничего, Егор Петрович, живите, а мы тихим людям рады! – говорит он, поглаживая рябые щёки неверными, дрожащими руками. И речь у него – тоже неверная, вся пересечена оговорками и поправками.
– Места у нас для таких людей очень приспособленные – никаких заводов, фабрик в округе нет, то есть тут, верстах в двенадцати, некоторые химики дёготь гонят и ещё что-то, человек с тридцать рабочих, но – они всё больше здешние, пришлых немного, и волнений каких-нибудь теперь нет.
Маленький он, сухой, личико костлявое, щёки глубоко вспаханы оспой, а лоб почти не тронут ею, и на нём чутко, как мышиные уши, вздрагивают брови, похожие на вопросительные знаки. Глаза маленькие, мутные и беспокойные.
– Народ здесь больше раскольники, хотя, конечно, молодёжь, она уж ни богу, ни чёрту, а всё для самой себя, – рассказывает он. – Положим, я здесь недавно, с осени, а раньше в Займище служил, знаете – затон там, стоянка пароходов? – очень трудно! Особенно – зимой. Приходилось стрелять в людей, в меня тоже палили, лошадь пострадала, ногу вывихнул, а у меня – жена, троё ребят, – попросился, чтобы перевели. Конечно, и здесь – не на печке, бывают разные волнения, а всё-таки спокойнее – мужик ещё не отчаялся и жизнь свою ценит, а уж этот рабочий народ – вы, городской житель, сами знаете, каков он… Хотя они, фабричные, проникают во все щели, как бы ветер, примерно, однако – мы их замечаем…
Похож он на комара, начальник сей, а в голове у него, видимо, заплуталась какая-то непонятная ему мыслишка и шумит там, тихонько беспокоя господина Клеонова.
Много теперь надорванных людей, живущих прошлыми страхами, в ожидании будущего ужаса.
Деревенька маленькая, уютная, и хоть бедная, но урядливая. Стоит в широком кольце лесов, на холме, обегает этот холм полукругом бойкая и светлая речка Вага. Везде, куда ни глянешь, увалы и холмы, на них, словно ковры, пашни лежат; всюду, замыкая дали, стоят леса, и только в северном углу распахнулись они, выпуская на поляну сплавную реку Косулю, но она, приняв Вагу в берега свои, круто изогнулась и уходит снова в темноту лесов.
Уже на второй день своей жизни в Гнездах, гуляя по деревне, я приметил человека, который был мне указан, да и он чутьём понял, кто я.
Новый мой знакомец – сын старосты, Егор Досекин, человек крепкий и круглый, словно булыжник, с большой головой, серое скуластое лицо его точно из камня вырезано, и весь он похож на черемиса. На подбородке и скулах растёт тонкий и кудрявый желтоватый волос, узкие глаза косоваты и прищурены, смотрят недоверчиво и строго.