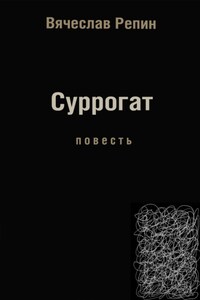Дом в Ипёкшино, принадлежавший знакомым знакомых, мне показали поздней осенью, задолго до того, как я решил в нем поселиться. В Подмосковье я намеревался пожить какое-то время. После долгих лет жизни за границей решение казалось непростым. От русского быта, а тем более от загородного, подмосковного, отвыкнуть проще простого, труднее привыкать к этому заново. Отдаленность от всего привычного, извечные трудности с покупками, необходимость заниматься хозяйством, – всё это и не старо и не ново. Жизнь в Подмосковье за годы вряд ли сильно изменилась. Обычный образ жизни мне предстояло променять на одни голые планы. К тому же и планы у меня пока были расплывчатые, самые расплывчатые за всю мою жизнь.
В доме не жили уже больше года. И хотя коттедж, возведенный как готовый сруб, не выглядел запущенным, нежилым, обстановка производила впечатление наспех законсервированного семейного благополучия. Так бывает с дачами при разводах, когда собственность не успели поделить, а о вчерашнем благополучии заботиться уже нет смысла. Да и как поделить прошлое?
Однако не могло не подкупать и доброе, бескорыстное отношение хозяев к моим нуждам. Загородные дома писателям предоставляют в пользование до сих пор. Хозяин дома уверял меня, что я смогу жить в Ипёкшине столько, сколько будет нужно. Жена его, уже бывшая, добивалась продажи общей недвижимости. Но на поиски нужного покупателя мог уйти и год, и больше. На меня возлагались только расходы «по счетчику». Я чувствовал себя баловнем судьбы, везучим мегаломаном, которому верят на слово…
И вот настал день, уже под конец зимы, когда я выбрался из такси перед воротами нового пристанища, давно не открывавшимися из-за сугробов. Было около десяти вечера. Давно стемнело. Стоял мороз. В свете фонаря мельтешил мелкий снег. Темневшие над оградами запертые коттеджи выглядели неожиданно сиротливо, в свой первый визит я даже не обратил на всё это внимания. Свет теплился лишь в двух-трех окнах на весь дачный поселок.
От тишины закладывало уши. В такую зиму я не попадал много лет. И еще не вставив ключ в замочную скважину, я вдруг спросил себя, не здесь ли конец моей прежней жизни…
* * *
С утра я опять не мог отойти от окна. Зимний пейзаж так и напоминал брейгелевский. Над кромкой далекого леса небо подпирала очередная гора облаков. От нещадной белизны снега и клубившихся в ясном небе облаков резало глаза.
Так и пролетел первый день. Я осматривал большой холодный дом, хозяйство, сходил на станцию за покупками. Смеркалось неожиданно рано. Окна в нижней гостиной-столовой, где имелся еще один выход в заснеженный сад, смотрели на запад. За крышами соседних домов с другой стороны пруда, который выдавал себя под снегом округлой впадиной, мутновато просматривался яркий солнечный диск. На закате солнце еще раз озарило округу, и теплый свет с оттенками топленого масла заполнил посеревшие комнаты. Мир на глазах стал таять в синеве.
Простой ужин я унес в верхнюю гостиную с телевизором и при свете настольных ламп и уличных фонарей смотрел новости. Внешний мир был тут как тут. И неминуемо заявлял о своих правах. Не умолкали дискуссии о Фукусиме. Бравые русские эмигрантки, повыходившие замуж за местных самураев, наперебой уверяли, что покидать свои дома и не думают, хотя давно пора было согласиться на эвакуацию, чтобы уберечь детишек от растущей радиации. Однако соседи, японцы, да и свои мужья, не того, мол, оказались десятка. Не бегут здесь от стихии куда глаза глядят… В Афганистане – очередной кирдык. В центре Кабула от самодельного взрывного устройства пострадало двадцать человек, среди них сотрудники ООН. На том же канале обещали показать какую-то помпезную тусовку, с шумом прошедшую в Лондоне день назад. Юбилей Горбачева. Почему юбилей бывшего генсека справляли в Лондоне, понять было трудно.