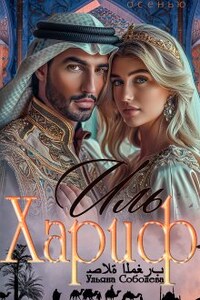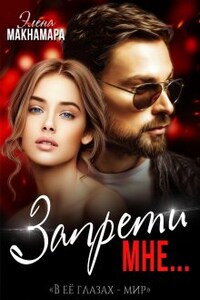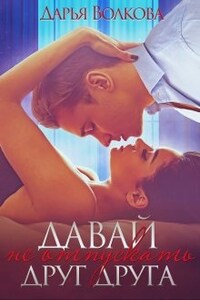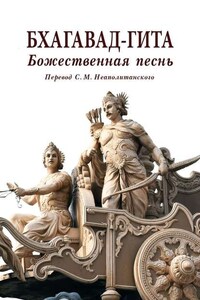Людское равнодушие страшнее самого
жуткого маньяка-убийцы, оно жизни людей косит конвейером.
Предпочитают отмолчаться, отсидеться, не видеть и не знать. Так
жить легче.
(с) Отшельник. Ульяна Соболева
Это был жуткий и самый кошмарный сон. Сон, в котором я бегу
через лес, спотыкаюсь, царапаю руки и ноги ветками и испуганно
оглядываюсь назад. Мои руки в крови… в ЕГО крови. И я в истерике, я
трясусь от дикого ужаса и от мысли, что убила его. От мысли, что он
сейчас там, валяется на земле окровавленный, с ножом в боку и
смотрит в небо своими пронзительно-синими глазами.
Остановилась, чтобы отдышаться, снова оглянулась назад. Как же
хочется вернуться, как же хочется сломя голову побежать туда, где
он медленно оседал на колени, глядя на меня и жутко улыбаясь своим
безупречно красивым ртом. Ртом, который меня целовал…ртом, который
грязно опускал меня в болото и возносил на вершины экстаза, ртом,
который я успела полюбить себе на погибель.
А потом прижала руки к животу и вспомнила, как он…почему это
сделала. Свой выбор. Никто и никогда не будет дороже и любимей
собственного ребенка. И у меня есть только он. Еще нерожденный, но
самый родной. Единственный родной для меня.
Развернулась и, всхлипывая, побежала в сторону дороги.
Потом я буду брести по ней очень долго. Ободранная, грязная и
босая. Мимо проезжают автомобили, кто-то облил меня грязью. Я
мокрая, голодная и обезумевшая от страха, от горя и от
неизвестности. И я еще не знаю, куда иду. Мне не к кому. У меня нет
денег и нет документов. И мне безумно страшно, что за мной будут
гнаться, что меня найдут и, если я его убила, посадят, и отберут
потом ребенка. А может, за убийство президента казнят. Нет, мне не
страшно за себя. Мне страшно за тот комочек, который живет во мне,
страшно, что он останется в этом мире совершенно один, как я
когда-то. Страшно, что однажды ему придется себя продать, чтобы
выжить. И я не имею права этого допустить.
Возле меня внезапно остановилась машина, и я чуть не заорала от
ужаса, бросилась в сторону. Поскользнулась в грязи и чуть не упала.
Стекло опустилось, и я увидела Гройсмана.
- Садись!
Кивнул на переднее сиденье, но я отрицательно покачала
головой.
- Садись, говорю!
- Нет! Неет! Убирайтесь!
- Садись, дура! Я помочь хочу! Никто больше не поможет! Сгребут
какие-то уроды или менты! Садись в машину! Застудишься и без
ребенка останешься!
- Это…это он вас послал?
- Нет! Не бойся! Садись!
Полил дождь, и я все же открыла дрожащей рукой дверцу машины и
села. Меня трясло так, что зуб на зуб не попадал. Гройсман набросил
мне на плечи свой пиджак и протянул бутылку с водой.
- Выпей. На заправке чай горячий куплю.
Сорвались с места. Не знаю, почему села к нему. Боюсь до дикой
дрожи и в то же время понимаю, что нет у меня выбора. Нет другого
спасения. И долго брести по этой дороге я тоже не смогу.
- Куда мы едем?
- На заправку. Переоденешься, и я тебя на вокзал отвезу. Там
сзади твои вещи и документы. Поезжай куда глаза глядят. Желательно,
как можно дальше.
Кивнула и в бутылку обеими руками впилась, меня все так же
трясет и все так же стучат зубы.
- Он…он жив?
- Жив.
- Он…
- Выкарабкается. Рана не смертельная.
А у меня перед глазами день…когда я поняла, что не могу без
него, когда он впервые мне улыбался.
«Он привез меня в гостиницу на берегу моря. Если нас и
сопровождала охрана, делали они это очень осторожно и незаметно.
Потому что у меня впервые создавалась иллюзия, что мы одни.
Оказывается, вот этого самого ощущения мне ужасно не хватало.
Обычного, человеческого уединения.
Привычная роскошь вновь вернулась в мою жизнь. Роскошь и
чистота. В номере он занес меня в ванную и долго мыл…очень
осторожно, почти лаская, почти не касаясь моей обгоревшей кожи
мягкой губкой, только пальцами и мыльной пеной.