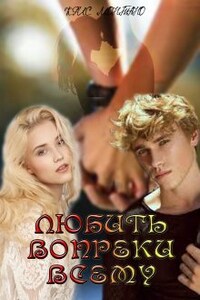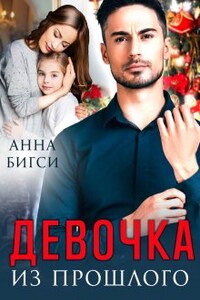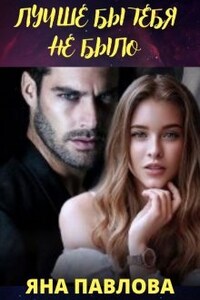- Я люблю тебя, - шепчу я. - Мне так жаль! - А потом я поднимаю
правую руку и со всей силы ударяю ее по лицу.
Ее крик наполняет комнату за секунду до того, как замок ломается
и дверь открывается. Внезапно дверной проем заполняют люди в форме
и с трещащими рациями. Я за руки и талию обхватываю Машу рукой,
прижимая спиной к себе. На внутренней стороне ладони, закрывающей
ее рот, я чувствую обнадеживающую струйку крови.
Когда они приказывают мне отпустить ее и отойти от кровати, я не
могу двинуться. Я должен сотрудничать, но физически я не могу. Я
застываю в ужасе. Я боюсь, что если уберу руку со рта Маши, то она
расскажет им правду. Я боюсь, что как только они заберут ее, я
больше никогда ее не увижу.
Они просят меня поднять руки. Я ослабляю хватку, удерживающую
ее. “Нет! - кричу я внутри. - Не оставляй меня, не уходи! Ты моя
любовь, моя жизнь! Без тебя я ничто, у меня нет ничего. Если я тебя
потеряю, то потеряю все”. Очень медленно я поднимаю руки, с трудом
удерживая их в воздухе, борясь с непреодолимым желанием вернуть ее
в свои объятия, поцеловать ее в последний раз. Осторожно
приближается женщина-офицер, словно Маша - дикое животное, готовое
сорваться с места, - и поднимает ее с кровати. Она издает слабый
сдавленный всхлип, но я слышу, как она делает глубокий вдох и
задерживает дыхание. Кто-то укутывает ее в одеяло. Они пытаются
вывести ее из комнаты.
- Нет! - кричит она. Разразившись внезапными рыданиями, она в
отчаянии поворачивается ко мне, ее нижнюю губу окрашивает кровь.
Губы, которые когда-то нежно прикасались ко мне; губы, которые я
так сильно люблю; губы, которым я не хотел навредить. Но теперь, с
израненными губами и заплаканным лицом она выглядит такой
потрясенной и разбитой, что даже если и потеряет всю решимость и
расскажет правду, я почти уверен, что ей не поверят. Ее глаза
встречаются с моими, но под пристальным взглядом офицеров я не в
состоянии дать ей хоть малейший признак утешения. “Иди, моя любовь,
- взглядом прошу я. - Следуй плану. Сделай это. Сделай это для
меня”.
Когда она поворачивается, ее лицо сникает, и я борюсь с сильным
желанием выкрикнуть ее имя.
_______________________________
Я смотрю на маленькую, свернувшуюся, сгоревшую скорлупу черного
цвета, разбросанную по выщербленной белой краске подоконника.
Трудно поверить, что они когда-то были живыми. Интересно, каково
это - быть закрытым в этой душной стеклянной коробке, в течение
двух долгих месяцев медленно поджариваемым безжалостным солнцем,
видя улицу - ветер прямо перед тобой качает зеленые деревья, -
бросаясь снова и снова на невидимую стену, которая отделяет тебя от
всего реального, живого и нужного до тех пор, пока, наконец, ты не
сдаешься: выжженный, измученный, подавленный невыполнимостью
задачи. В какой момент муха сдается, не способная вылететь через
закрытое окно? Ее инстинкты выживания поддерживают ее до тех пор,
пока она физически не окажется способна на что-то еще, или она, в
конце концов, так хорошо понимает после одной неудачи, что выхода
нет? В какой момент ты решишь, что хватит?
Я поворачиваю свой взгляд от крошечных обломков и стараюсь
сфокусироваться на массе квадратных уравнений на доске. Тонкая
пленка пота покрывает мою кожу, захватывая пряди волос со лба,
цепляясь за мою школьную рубашку. Весь день солнце лилось через
окна больших размеров, и я глупо сижу в ярком свете, наполовину
ослепленный мощными лучами. Спинка пластикового стула болезненно
вонзается в мою спину, так как я сижу, откинувшись, одна нога
вытянута, пяткой прислонившись к батарее вдоль стены. Манжеты моей
рубашки свободно висят вокруг запястий, испачканных чернилами и
грязью. Пустая страница уставилась на меня, болезненно белая,
поскольку я решаю уравнения в летаргическом, едва разборчивом
почерке. Ручка скользит в липких пальцах; я отдираю язык от неба и
стараюсь глотать. Я не могу. Я сидел в таком положении большую
часть часа, но я знаю, что попытка найти более удобное положение
бесполезна. Я задерживаюсь на сумме, наклоняю перо ручки так, чтобы
оно цепляло бумагу и издавало слабый царапающий звук - если я
закончу слишком быстро, мне будет нечего делать, кроме как снова
смотреть на дохлых мух. Голова болит. Воздух стоит тяжелый,
наполненный потом тридцати двух подростков в переполненном классе.
Есть тяжесть на моей груди, которая мешает дышать. Это намного
больше, чем эта засушливая комната или спертый воздух. Эта тяжесть
пришла во вторник, как только я переступил через порог школы.
Неделя еще не закончилась, а я уже чувствую себя так, как будто
провел здесь целую вечность. Между школьными стенами время течет
как цемент. Ничего не изменилось. Люди все те же: пустые лица,
высокомерные улыбки. Мои глаза скользят мимо их, когда я вхожу в
класс, и они пялятся мимо меня, сквозь меня. Я здесь, но не здесь.
Учителя отмечают меня в журнале, но никто не видит меня, я долго
совершенствовал искусство быть невидимым.