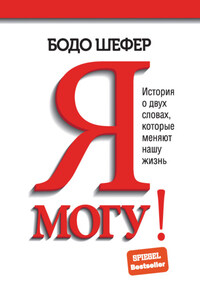Тишина первого сентябрьского утра раскололась в спальне Вересовых суматошным скрежетом старого будильника.
Юрий Андреевич шевельнулся было, но затих, лишь рука неуверенно потянулась к надрывающейся жестянке, заученно-ловко нащупала рычажок, уняла настырный, ускользающий из-под пальцев молоточек. Вернулась тишина, уже непригодная для сна. Он открыл глаза.
В спальне полумрак – на ночь тяжелые шторы плотно задернуты, и все же плоский лучик невысокого еще солнца сочится в комнату, яркой отвесной полоской высвечивая стену и, ломаясь у плинтуса, иссякает на янтарном паркете пола.
«Утро доброе, – подумал Юрий Андреевич, вспомнив, что накануне было пасмурно, то и дело срывался дождь, а к ночи и вовсе полил. – Значит, дождь, излившись, перестал ночью, земля омыта, свежо… Встретить бы такое утро в лесу…»
«О лесе не мечтай, – возразил он себе, отходя ото сна. – Уж если за долгое лето не пришлось побывать в лесу, теперь и вовсе рассчитывать не на что. Вольная жизнь без будильника отошла – два месяца отпуска пролетели как один день… Впереди бесконечные десять месяцев бега с короткими передышками – воскресеньями. Покатился третий учебный год, я так ждал его».
«Удивительно, но чем больше у нас времени, – продолжал он думать, – тем меньше мы ценим его и тем быстрее оно уходит. Нам невдомек, что вместе с ним уходит жизнь. Вот и теперь я лежу, не сплю, не бодрствую, мне бы подняться, помахать руками, поприседать, чтобы скорее забегала кровь, застоявшаяся за ночь. Однако же мне не встается. И не по лени, нет, и не потому, что не выспался, тоже нет. Мне оттого не встается, что все еще длится мир в душе, а как же мне хочется мира…»
Он катнул голову по подушке влево и встретился с настороженным взглядом жены. Удивился мирному выражению ее лица – непривычно.
«Она со сна такая – расслабленная, – думал Юрий Андреевич, и нежность с готовностью шевельнулась в нем, пресекла дыхание. – Как же хорошо было бы, если бы у нее всегда было такое лицо – умиротворенное…»
– Привет, – сказала Лариса с задорным вызовом, как говорила, когда была в добром расположении духа, и улыбнулась.
– Привет, – ответил он в тон ей и тотчас же вспомнил, что накануне они повздорили. Не вспомнить было, из-за чего, но шум был порядочный…
– Как спалось? – спросила она все еще дружелюбно.
– Отлично, – ответил он уж и вовсе весело, опасаясь спугнуть ее хорошее настроение. – А ты как спала?
– Как всегда, замечательно.
И уже другое лицо перед ним, другие глаза и другая улыбка – немирные.
«Проснулась, – подумал Юрий Андреевич уныло, – и немедленно перебросила мостик из вечера в утро – вспомнила. Теперь примется жить энергично, решительно».
И стоило так подумать, как с готовностью, к которой никак не привыкнуть, тронулось в нем раздражение.
– Что же не встаешь? – спросила Лариса.
– Я совсем не хочу вставать.
– И ты самый несчастный человек на свете, – подхватила она с недобрым смешком, задираясь.
– Этого я не говорил, – сдержанно возразил он.
– Но подумал, – сказала она и прислушалась – звонкий утренний голосок Алены донесся из соседней комнаты.
– Мама!
Лариса сорвалась с постели, босиком побежала к двери.
«Что же такое сталось с нею, – думал Юрий Андреевич, продолжая лежать, – что сталось с нами? И чем объяснить преграду, вдруг разделившую без надежды – ни обойти, ни разрушить. Не потому ли как избавления ждешь, что жизнь твоя, однажды опомнившись, по собственной воле откатится вспять – к неозабоченному счастливому времени первой близости, в золотой век, когда все еще только начинало быть…».
«Чепуха! – с горячностью возразил Юрий Андреевич самому себе. – В нас годами зрело взаимное раздражение – крепло. Мы копили его по крохам, как копят добро».