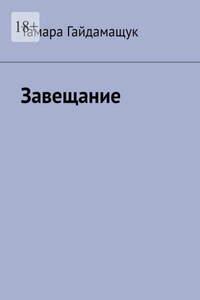Первая ночь декабря выдалась на редкость морозной, но бесснежной. Вместо снега продрогшую землю покрыл тонкий слой инея, на котором чётко различались следы беглецов. Стояла холодная, прозрачная тишина, и в её стеклянном пространстве даже слабое позвякивание железа, малейшее соприкосновение двух металлических поверхностей разносилось по всей округе сигналом тревоги над ночными улицами, пустынными перекрёстками и сизыми бульварами большого приволжского города, окутанного ползучей ледяной мглой.
Опережаемые собственными тенями, беглецы двигались вдоль высокой, бесконечной серо-бетонной стены. Их было двое, и они передвигались так быстро, что казались призраками: едва позади остался последний фонарь, как их силуэты растворились в темноте и об их присутствии можно было догадаться лишь по скрипу шагов по побелевшей от инея земле.
Бывают тёплые ночи, как где-нибудь в Крыму ранней осенью, на берегу моря; бывают ночи городские, наэлектризованные шумом праздника, гулянья; а бывают тихие, ясные, неимоверно ласковые ночи где-нибудь в деревянном загородном доме, на заимке в лесу или в уютной квартире, когда воздух пронизан любовью и нежностью. Но эта ночь в замёрзшем городе была всего лишь мглистой зимней ночью, и светофоры на улицах уже ни для кого были не указ, даже для густого тумана, ползущего на красный свет сквозь плотную синь, как ватный тампон по окровавленной ране.
Улица, как и стена, тоже казалась бесконечной. В самом конце, где, по логике, высокая стена тюрьмы образовывала угол, беглецы услышали глухое эхо и на секунду замерли, выдыхая синхронные облачка пара. Потом переглянулись, чтобы подбодрить друг друга (медлить было нельзя) – и возобновили бег. И только тогда тишину проре́зал ужасный звериный рёв, но забиваемое животное было стальным: это наконец взвыла тюремная сирена. Окрестные жители, должно быть, привыкли к этому резкому звуку, потому что лишь в редких окнах снова вспыхнул свет.
Следующая улица, расположенная перпендикулярно тюремному зданию, была такой узкой, что парковаться на ней можно было только с одной стороны. Она была застроена низкими зданиями послевоенных времён, среди которых два-три ветхих дома подлежали слому. По правую сторону мирно спали автомашины. Все, кроме одной. В лицо бегущим вспыхнули габаритные огни бежевого авто, и тотчас же зафырчал мотор. Испуганная кошка выскочила из мусорного бака. Если точнее, то цвет машины скорее был грязно-бежевым. А человека, сидевшего внутри и включившего зажигание, можно было назвать скорее моложавым, чем молодым. Волосы коротко пострижены неумелой рукой, брови сердито вздёрнуты, возможно, с рождения. Сейчас в его настороженно застывшем взгляде лихорадка тревоги смешивалась с неким более смутным, но угадываемым чувством. Взгляд человека, которому недолгое существование на этой земле нечасто дарило минуты расслабления или передышки. Это было видно по тому, как он смотрел в зеркале заднего вида на двух бегущих мужчин, которым осталось преодолеть всего несколько метров. Повернув голову назад, водитель с такой силой сжимал руль, что, казалось, выпусти он его из рук – и руль отвалится.
Оба беглеца почти одновременно распахнули двери машины, и моложавый человек без звука передвинулся на место пассажира. Словно сговорившись заранее, старший из беглецов, тип лет пятидесяти с лицом, по-крестьянски изрезанным морщинами, на котором чужими казались многое повидавшие карие глаза, забрался на заднее сиденье, тогда как другой, крепыш, намного моложе, уселся за руль. Он был внушительного телосложения, но взгляд его излучал такую кротость, которую не способны сломить ни пребывание в тюрьме, ни другие удары судьбы. Со спины оба были очень похожи друг на друга: одинаковые стриженые затылки, одинаковые куртки из чёрной бумазеи, одинаковые тюремные штаны. Дверцы машины хлопнули. Никто не проронил ни слова. Грязно-бежевая машина съехала с тротуара и нырнула в серо-голубую мглу. Двумя улицами позади, где-то в стенах тюрьмы, надрывалась сирена, адресуя свой возмущённый, надсадный и жалкий вой чёрному небу и далёким звёздам.