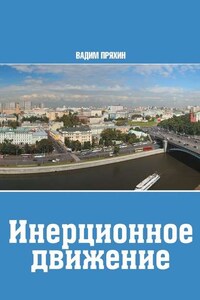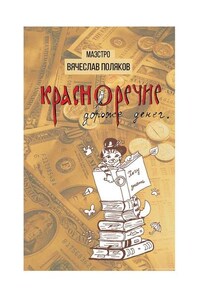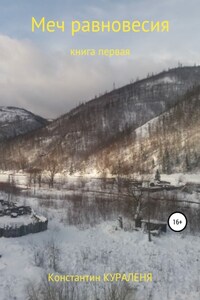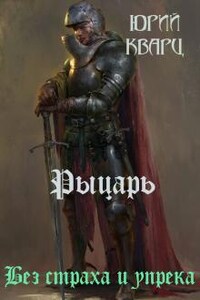Человек рождается на свет ребенком.
А уходит – стариком.
В этом есть какая-то жуткая, до слез обидная несправедливость.
А все, что несправедливо, то, по моему глубокому убеждению, неправедно. Неправедное же преходяще.
Неправедное не существует само по себе, его бытие несубстанционально.
Раз нам чувствуется, что в движении от детства к старости есть что-то не то, то, значит, так оно и есть. И посему может быть преодолено. Нет ничего непоправимого! И на такой случай предусмотрено Обыкновенное Чудо. Надо только захотеть все исправить, просто положившись на это Чудо.
Куда уходит детство? Никуда.
Детство – не место и не время, а способ существования души. Это мы из него уходим.
Мы начинаем уходить прямо с колыбели, поскольку с ходу попадаем в мир тех, кто уже ушел.
Уже ушедшие, не ведая о том, что они ушли, уводят и нас.
Тотчас после нашего появления они с доброй улыбкой протягивают нам свои очень большие и очень важные игрушки. Они – как стена, отрезающая нас от жизни.
И мы поначалу отчаянно сопротивляемся: сначала кричим, потом плачем, потом хнычем, потом капризничаем, потом хулиганим… А потом – суп с котом.
Или пытаемся быть послушными и добросовестными, и это хуже всего. Если, конечно, нам не выпало счастье родиться в семье просветленных жителей вершин духа…
Наконец, мы не выдерживаем и сдаемся.
И вот тогда-то этот неплохо организованный для удобства стариков мир, который мы, плача и давясь, все-таки проглатываем, как подслащенную пилюлю, хорошенько осев в мозгу, прижимает нас к земле.
Так появляются синица в руке и тоска по журавлю, правое и левое, доброе и злое.
Мы были магами, а стали – в лучшем случае – поэтами.
Добывая свой хлеб потом и кровью, мы ищем всю жизнь затонувшую Атлантиду, не ведая о том, что она всегда рядом.
В общем, как все, наверное, уже догадались, наше детство заканчивается, еще не успев начаться.
И это его мы потом ищем всю свою жизнь.
1
– Нет, шорты сегодня лучше не надевать, – говорит мать, стоя ко мне спиной, и, словно ожидая подтверждения сказанному, вытягивает руку за перила балкона и скептически всматривается в небо. – Наденешь брюки – свежо. А то будешь потом кашлять на моих нервах.
Что значит – наденешь? Мне, ясное дело, до лампочки, брюки на мне или шорты, но что означает этот повелительный глагол? Выудив из сетки сплющенную, как юла, сине-красную луковицу, я отправляю ее в полет над озабоченным воробьем, который, прикорнув на нашей веревке для белья, слишком уж откровенно – подчеркнуто откровенно – чистит свои перья, навевая на мою мать не лучшие мысли о погоде. Воробей тоже отправляется в полет – над нашим двором, – а на его место приземляется сизый голубь, он важный и, топорщась, откидывает голову назад, чтобы сердито всматриваться в каждого. Ходит, беспокойно крутится, утробно урчит.
– Сейчас!
Это не я говорю. И не матери. Это – из меня какая-то трепетная сила.
Я бегу в прихожую, нащупываю впотьмах сандалии. Мать выбегает туда же, словно и ее сила перенесла из лоджии в спальню, откуда она уже несет охапкой какую-то подхваченную на бегу одежду.
– Померяй-ка вот эти. И кофту не забудь… – повторяет она, размахивая перед моим лицом широкими оранжевыми брюками и красной шерстяной кофтой в крапинку.
Я выхватываю кофту, комкаю ее и отбрасываю прочь:
– Опять тетя из Магадана прислала?
– При чем здесь Магадан? А даже если и из Магадана, то что ж в этом плохого? Ты же знаешь, тетя Света покупает в «Военторге» все самое модное.
– Скажи лучше, самое теплое!
– Модное – и теплое! Если будешь себя так вести, вообще никуда не выйдешь!