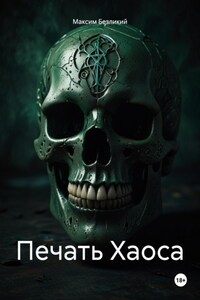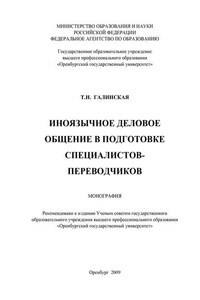Сегодня 264 день моего заключения. Я всё ещё слышу его плач.
Мышонок прячется хорошо, кошкам его не достать.
Ему всего-то пять недель от роду, он ещё помнит вкус маминого молока – слаще сахара. Но мамы нет рядом, малыш потерялся.
Он бежал со всех лапок, держась за мамин хвост, бежал быстро, не отставал. И вдруг выпустил хвостик. Случайно, всего на секунду отвлекся, и хвостик вместе с мамой тут же скрылся в ночном лабиринте. Мышонок звал маму, пищал что было сил, но никто ему не ответил.
Тогда он спрятался в большой старой коробке с туфлями, забился между бумажных комков в кожаную колыбель, да так и заснул в ожидании, когда мама его отыщет.
Она не пришла. Малыш проспал до утра, а проснувшись, слушал звуки за картонными стенами, но ни один из шорохов, скрипов и топотков не был похож на мамин.
Мышонок всё ждал, затаившись, но без толку. Мама убежала так далеко, что не смогла вернуться назад. И малыш понял, что дорогу домой ему придется искать самому.
Когда вновь опустилась ночь, мышонок выскользнул из коробки и огляделся. Его черные глазки уже видели в темноте, крохотный нос чуял десятки запахов разом, а ушки различали самые тихие и отдаленные звуки. По углам прятались страхи и жути, но мышонок был готов бежать так быстро, как только сможет. Пока же он крался, принюхиваясь, надеясь среди посторонних различить мамин след.
Коробки сменялись банками, банки рядами коробок, все покрытые пылью и паутиной, лабиринт казался бескрайним. И тут малыш почуял прохладу свежего воздуха. Тонкая нить сквозняка тянулась откуда-то из темноты хламовых гор, мышонок, не раздумывая, устремился прямо туда.
Щель. Это была узкая щель там, где пол встречался со стенами. Бесполезная для кого угодно другого, но мышонку она подошла в самый раз. А снаружи был воздух, безгранично пустой и холодный, и десятки огней далеко-далеко в вышине.
Мышонок замешкался, не понимая, куда ему деться посреди такого огромного воздуха. Тут не спрячешься, не юркнешь в коробку, не скользнешь под половицу чуть что. Но где-то там далеко была его мама, и малыш решился бежать. Вдоль рядов далеких огней, чтобы хоть что-то служило ему ориентиром.
Первую кошку он почуял издалека. Мышонок ещё не знал, что такое ночная охота, но шерстка у него за ушами сама встала дыбом, и он тут же понял – беда. Она пахла голодом, пеплом остывшей печи и рыбьим хребтом.
Малыш бросился прочь с освещенной дороги, ткнулся в глухую стену, слился с ней, распластавшись по холодному камню, и замер. Почти не дыша. Беда надвигалась.
Она выступила из сизого туманного облака, будто из него была соткана – серая, пыльная, с клоками свалявшейся шерсти. Медленно, широко раздувая ноздри, сверкая зеленью глаз, она прошла мимо, не заметив мышонка. Втянула воздух особенно жадно, когда поравнялась с ним на дороге, но так и не остановилась.
Мышонок дождался, пока запах беды истает в тумане, после встряхнулся и бросился бежать навстречу цепочке огней. За огнями его ждали новые лабиринты, пропахшие сыростью, старостью, плесенью, иные – с запахом горящих углей и свежеиспеченного хлеба. И кошки. Кошки его тоже ждали.
Но мышонок прячется хорошо, кошкам его не достать. Лишь бы и мама им не досталась.
Я всё ещё не знаю, зачем они меня заперли. Не помню, как это случилось.
Я просто проснулась в этой замурованной комнате, и сколько бы ни кричала, ни звала, ни молила о помощи, никто не пришел.
Они не причиняют мне физической боли, не навещают ночами, чтобы мной воспользоваться, не сыпят угрозами, не выдвигают условий. Я никогда их не видела, не слышала их голоса, не замечала следов. Уже девять месяцев я в неведении и взаперти.
Моей тюрьмой они сделали старую комнату без дверей. Стены, оклеенные цветными обоями, были сплошными, без единого намека на выход. Только два небольших окна, и те забиты досками наглухо. Пол – ледяной, так что наступать неприятно и больно. Трещины в половицах, трещины в потолке, и сквозь каждую прорывается холод.