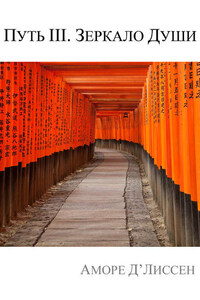Нью‑Йорк встретил Офелию не словом, а шумом. Гул машин, скрежет шин, отдалённые сирены, голоса, которые сливались в одну непрерывную твердь – город, живой и неумолимый, как организм. Она впервые стояла у окна своей комнаты на восьмом этаже старого кирпичного дома и считала проходящие по булыжнику тени. Внизу, на оживлённой улице, блики витрин мигали, как неприкрытые обещания, и где‑то дымился канализационный люк, выпуская в воздух больной, но родной для мегаполиса запах.
Комната была крошечной – стандартная Нью‑Йоркская студия: одно окно с видом на противоположный фасад, маленькая кухонька, складная кровать, под которой она спрятала коробки с вещами. Стены местами облупились, на одной из полок стояли учебники по литературе, пара кружек с набившимся кофейным налётом и фотография в пластиковой рамке: на ней её родители, улыбающиеся, держат её за плечи на фоне английского сада. Офелия часто ловила себя на том, что смотрит на эту фотографию, как будто в ней была зафиксирована последняя нить отношений, которую она могла бы перетереть в пальцах. Она сжала её кулаком, ощущая знакомую острую смесь благодарности и вины – за тот шаг, за отрыв, за самостоятельность, которую давил страх.
Она знала, что внешне у неё всё «как надо». Длинные тёмные волосы падали мягкой вуалью до лопаток; скулы были аккуратные, губы – симметричные, а глаза – хитро‑сумрачные, как у тех актрис, которых вы не замечаете в толпе, но которые остро запоминаются. Её кожа была слегка бледна от английской погоды, но именно эта бледность делала её черты благородными. Но всегда, стоя перед зеркалом в комнате она чувствовала себя чужою: зеркало отражало не столько лицо, сколько список недостатков, которые она сама выстроила в обезоруживающий ряд. Нос казался ей слишком прямым, зубы – не идеальными, движения – неловкими и нелепыми. Она знала, как нелогично всё это выглядит со стороны; знала, что люди чаще видят её и думают «красивая», – но в её голове «достаточно» никогда не пересекалось с «идеально».
Офелия болтала ногами на краю кровати, сжимая в руках школьный дневник, который взяла с собой после окончания школы в Англии, куда успела уже сделать первые пометки о заданиях, и думала об одногруппниках – о тех, кого ещё не знала. Воображение рисовало их в ярких красках: безупречные волосы, уверенные улыбки, лёгкая насмешливая ирония в глазах – те, кто привык уже быть в центре. Ей казалось, что их разговоры будут тихим приговором без аплодисментов. Мысли создавали вокруг неё странную ауру предательства: она видела, как они шепчутся за её спиной, обсуждают её одежду, её акцент, её манеру жестикулировать. Эта мысль колола сильнее холодного ветра, режущего лицо на улице.
Она не знала, откуда взялось это ощущение сделки, но воображение, обострённое тревогой, уже представляло письменный контракт: строчка – её имя; подпись – невидимая рука; предмет – самая дорогостоящая валюта, которую можно было предложить в обмен на красоту. Душа звучала в её голове как слово из старого романа, драматично и бесповоротно. Она смеялась над своей сентиментальностью, но в глубине внутренних переживаний робко горел странный огонёк – желание исчезнуть из середины и появиться в центре, чтобы никто не мог сказать «ты недостаточно…». Желание, чтобы зеркало перестало быть врагом.
Её шаги эхом отзывались по деревянному полу, когда она подошла к зеркалу, которое висело над комодом. Это было не художническое зеркало, а то, что купила на распродаже – в простой раме с узорами, покрытой тонким слоем времени. Она смотрела в него со смешанным чувством: одновременно как в окно, которое должно открыть новую жизнь, и как в капкан, где каждое движение может быть прочитано неправильно.