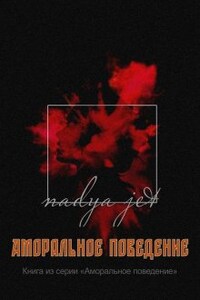В комнате пахло травами, пряными, горькими, пахло цветами и
совсем немного — прополисом. Сквозь неплотно закрытые ставни
врывался солнечный свет, отрезая у полумрака узкие полосы,
мерцающие золотистой пылью. Полосы эти ложились на пол, на
аккуратно заправленную постель, оставляя лицо стоявшей на пороге
женщины в полутени.
— Тебе чего?
Взгляд исподлобья — хмурый, неприветливый, в глубине прищуренных
глаз — все нарастающая злость, порожденная страхом. Острые уголки
плеч ее едва заметно вздрагивали, она пыталась их распрямить, но
всё равно сутулилась.
Он хотел протянуть руку и разгладить морщинки — в уголках её
сжатых губ, меж искривленных бровей. Он хотел отнять ее ладонь от
дверного косяка и притянуть к лицу, прижать к носу. Он
хотел…
Всплески её страха сладко-солено оседали на губах, и он
нестерпимо хотел их облизать.
— Мне? Ничего особенного. Просто поговорить.
— Нам не о чем говорить.
Он слова растягивал, она — кромсала на звуки. Пыталась незаметно
выплести защитные чары, ему даже смешно делалось. Светлая дева… Её
учили исцелять, возрождать, созидать… Не атаковать, не причинять
ущерба, ведь это вразрез с природой её Дара…
Его никто не учил. Бродя над пустыми глазницами мертвых, он сам
научился слышать их голоса — и подменять ими живых.
Неуловимое движение — и дверной косяк разогрелся до тления. Она
вскрикнула и отдернула руку, расцвел ожог на белой ладони.
Видеть красноту на светлой мягкости ему отчего-то неприятно,
но убрать ее он мог только вместе с кровью, что текла в ее
жилах.
— Есть о чём. Позволишь?
— Нет. Уходи.
Голос ее лопался и рассыпался высокими нотами, она не
справлялась с ним. Бесновался Дар её, пытаясь вырваться из-под
контроля и защитить хозяйку — чего бы это ему не стоило.
Она это знала и держалась из последних сил.
Его Дар молча гремел цепями под кожей. Он мог только выть и
царапать его изнутри — Дарам мертвых не положено говорить. С тех
самых пор, как он вырвал Дару язык, в его голове только один голос
указывал, что делать.
Его собственный.
— Уйду. Но сначала поговорим.
Воздух со свистом скользил по горлу ее, раздувая в лёгких огонь.
Она растерла ожог на руке, и краснота стремительно спала. От
светлой магии комната слегка поплыла у него перед глазами, но он
даже не вздрогнул — окаменевшее тело не дрожит, а сразу
рассыпается на куски.
— Входи. Только быстро.
Она отступила, пропуская его в комнату, хлестнули по щиколоткам
края широкой юбки. Под юбкой этой едва угадывались очертания бедер,
едва – но угадывались. От порывистых движений ткань натягивалась,
очерчивая их скупую округлость, и у него свербело под ложечкой, и
слюна во рту делалась горькой-горькой, вязкой... Усилием воли он
перевел взгляд на руки — кожа на них была стёрта местами до
красноты, ногти срезаны под корень — она работала с травами,
землёй, людскими ранами… Эти пальцы одинаково ловко бинтовали,
укладывали кости в лубки, мололи корневища в порошок и
срывали хрупкие цветки лаванды…
Едва он переступил порог, как она закрыла дверь и указала
взглядом на табурет у стены. Он видел напряжение мышц под
тонкой кожей, бледной от нехватки еды и солнца, видел пульсацию
жилки — стремительную, рваную. Ему не нужно было дышать, чтобы
слышать её страх. Он всё равно дышал — глубоко, под завязку
наполняя легкие её ароматом. Тонким, едва уловимым.
Надорвать бы эту жилку.... зубами… Надорвать и проверить —
правда ли кровь её пахнет липовым мёдом, как ему кажется…
— Ну? Выкладывай и проваливай.
Он медленно опустился на табурет, а она осталась стоять, хотя в
комнате было еще, где сесть. Он спрятал ухмылку — надо же,
храбрится, прелесть такая — и потянул вязки рубашки, распуская
шнуровку. Прежде, чем она успела издать возмущенный возглас —
стянул ее через голову. И вскрик застыл у нее на губах, некрасиво
их искажая.