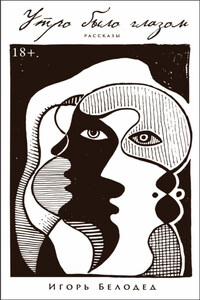И ничего не останется в памяти, откуда бы ты ни шел, куда бы ни приезжал, ты не вспомнишь даже раковину со сливом, в которую плакал, когда расставался с домом, и пенилась губка, и кожа истончалась почти до костей, и пальцы щипало так же, как глаза, и смеситель рвало, и казалось, что пар, исходивший из раковины, заполонит всю кухню, и ты окажешься в хамаме, где года четыре назад, до вашего с ней воскресения тер ей спину, опуская расстегнутый сверху купальник, мял сморщенные стопы, а кафель – охрово-сдержанный – прело говорил с вами, стеклянная дверь была приоткрыта на два пальца, и иногда с шипением из зарешеченного провала под кафельной скамьей напротив поднимался горячий пар, и люди, сидевшие там, – правда, в этот раз вспоминания их не было, – поднимали, почувствовав жар, ноги, и нелепые, будто испугавшиеся обожженной земли, восседали на скамьях в банных шапках, весело переглядывались, если были не одиноки, или же сосредоточенно обнимали колени мокрыми волосистыми руками и что-то беззвучное цедили сквозь зубы; в бассейне мы прятались за околосточным столбом, вставали на неровность, отделявшую глубокую среднюю дорожку от первой, мелкой, и от сходивших в нее ступеней короткой, ты хватала меня за шею, взбиралась на плечи, пока я, задержав дыхание, вытянувшись приготовившейся к прыжку лягушкой, не опускался на дно и, оттолкнувшись от него, как в гопаке, выскакивал из воды, а ты, отделившись от меня, что душа перед смертью, парила вверх, но затем, опомнившись, вочеловечившись, изъяв из себя протяжный звук «и-и-и-и-и-и», – так взрослые изображают детские звуки, подделываясь под ребячливость, хотя за ней не стоит ни свободы, ни воли, замирала на мгновение в воздухе и, сложив вытянутые руки перед собой, падала в воду – я с нетерпением ждал, пока твоя голова покажется из хлористых белесых взбрыков, чтобы побыстрее оттащить тебя обратно к столпу, потому что позади нас – или впереди? – всё путалось, – теребя воду, высоко задрав голову, плыла какая-то матрона, которой претили наши игры, вообще всякие игры, ибо для нее правильность означала скуку, и дряблость ее лица была лишним, если не окончательным удостоверением ее правоты и ее скуки, и, проплывая мимо нас, она недовольно морщилась, не потому что твой прыжок взбеленил воду вокруг нее, а потому что она боялась утратить себя, не поступи так, как было свойственно ее правильной и праведной правоте.
Губка исходила слюнями бешенства, в раскрытое кухонное окно шли звуки шуршавших машин, медленно двигавшихся по нашему переулку, и изредка любопытные головы вставали на жестяной козырек первого этажа, уже плотно вошедшего в плоть города, а может быть, никогда не бывшего первым этажом, а лишь подкопом, послереволюционной пристройкой, как наша квартира, сделанная из арки, заложенная по торцу тройной кладкой кирпичей – тычками и ложками, – и говорили: «Шторы-то на окна нужно вешать», – не так правильно, и не всегда говорили, по большей части прыскали, и их смех мешался в тебе с презрением к ним, и голова, казалось, вмещала так много, что нелепым представлялось, будто в ней соседствуют звуки и мысли: презрение к смеющимся прохожим и нечаянно горделивая любовь к арочным потолкам, потому как гостям ты непременно рассказывала о происхождении дома, показывала выемки в стенной кладке, где, по твоему уверению, держались штыри ворот, рука скользила на плакат с изображением газетного киоска в духе Баухауса, и, глядя на него, я думал, что это рука ребенка скользит и перемешивает выдранные из кубика Рубика цветные отделения, напячивает их одно на другое, и мне было отчего-то стыдно за простоту надписей на немецком языке, шедших по верху киоска, за их обыденность, что ли, так как подобное «сумасшедшее» (это твое слово) сооружение должно было нести на себе какие-то необыкновенные надписи, так же как в человеке, которого мы считали выдающимся композитором, нас внезапно отвращает запах изо рта, или незнание, пускай преодолеваемое, столицы Ирландии. Ду-ду-ду-ду – смеситель разрывало, а ты продолжала говорить, несмотря на любопытство, выказываемое или не выказываемое гостем, была в тебе не столько напористость, сколько самозабвение собственного хотения – волистость, придававшая чертам твоего лица какую-то жесткость – или, как знать? – эта жесткость была следствием твоей любви к женщинам, потому что никого из мужчин, даже меня… и срывалось, и пело, и пенилось, и помытые тарелки, серая – неизбежно моя, если пододеяльник, то, наоборот, цветастый, единоцветный ты оставляла себе, и наволочка под стать ему рябая, мы даже обедали одно время раздельно – и то, что я покупал тебе, не ел сам и гостям тоже предлагал что-нибудь из своего, не работала вытяжка, из нее капало, казалось, что стоит снять решетку раструбка, как оттуда вывалится мертвая крыса, или клопы – несметно-неимоверные, – их запах переспелой малины, вездесущесть этого запаха, как сейчас, когда я пытаюсь смыть со всего, что попадается на глаза, твои пятна – и пятна, которые ты показывала мне на кирпичном здании напротив под самым щипцом и говорила: «Закат!» – на что я отвечал: «Так какой же это закат? Еще и восьми часов нет! А закат теперь в десять!» – ты говорила: «Все равно», – и обнимала меня, и мы смотрели на явление солнца, полосующего надвое кирпичный барак, стоящий за колокольней восемнадцатого века, из второго яруса которой росла чахлая березка, края оконных проемов обнажились до кирпичей, а сама она казалась несущественным, безвкусным довеском к телу церкви – обыкновенному четверику из времен, когда князь, имени которого ты не хотела запомнить, держал здесь лошадей, и они паслись вдоль берегов речки, которая так и называлась Речка и которую императрица спустя пятьдесят лет после строительства колокольни указала взять в трубу, и так она текла под нами, когда мы обнимались, глядя на исходе июня на дом причта, и под нами зрело, расправляло ломкие хитиновые члены комарье. Я включал в розетку фумигатор с прикрученной к нему изнизу бутылью, будто чернильницей с зелеными чернилами, ты называла его «комарилка», и думал о родстве молнии и дыма в латинском языке, которое не умел объяснить, а за спальным окном – за другим окном, напротив кухонного, – виднелся край деревянного холодильника, который здешние проводники приезжих считали за диковинку и, окружив себя любопытными, точно ликторами, выкрикивали в прилепившийся к щеке усилитель шума: «В середине девятнадцатого века именно так и хранили снедь. В деревянных ящиках, что крепились на чугунных кронштейнах под окнами на том месте, где укорачивался жестяной отлив», – и приезжие дивились, и дворовые кошки прятались от громких звуков под машинами, и, оторвавшись вниманием от рассказа, я сам считал себя даровым добавлением к прилегающему, чем-то вроде конфет в огромных пиалах, что стоят на столе в конторе, и эта сущая безделица кажется не проявлением щедрости, а загодя рассчитанной милостью, которая заранее окупилась за счет первых расставшихся с деньгами – так и у нас на кухне, под столешницей, на полке-выемке стояла тряпичная коробка, в которой хранились мои сладости, и, когда я предлагал ее гостям, во мне была радость дарения, а в тебе радость того, что ты видишь воплощение своих детских грез, со временем – года через два – мне стало казаться, что и я в детстве мечтал об этой коробке с конфетами, где большая часть отводилась арахисовой разновидности, потом в ней лежало что-то вековое, вроде халвы в шоколаде, что липла к упаковке, и потому ее было неудобно и невкусно есть, вафельные конфеты – красно-белые и хрустко-недорогие, и теперь ведь ничего не останется от них, потому как всё распалось, как время, как это мгновение, которое мне не удалось собрать заново, кажется, я что-то сделал неправильно, когда я смотрю на кирпичные белые стены, на яблоки, написанные на холсте друзьями твоих родителей, и лишь через четыре года – и то по твоей указке – я понимаю, что они знаменуют собой, но и до сих пор окончательно не верю в то, что одно яблоко представляет собой идеальный прообраз другого, отнюдь не затхло-караваджевского, а обыкновенного яблока с прилавка – и купи мне, будь добр, шпинату, затем огурцов, лосося фунт, ветчину, грудинку на заморозку, испанский паштет, малиновое варенье, не то, что в прошлый раз, – подороже, без лимонной кислоты, и грушевый конфитюр – как можно больше! – питьевой йогурт и суфле-сырки в картонных упаковках, на которых можно прочесть, как я тебя полюбила, а может быть, и нет – не за твои руки, не за голос – картаво-пряный, не голос ведь меня брал тогда, когда я почти сказала «да» твоему предшественнику и оставила у себя кольцо, но кольцо потерялось, я приняла это за знак, однако за больший знак я сочла страх – как сейчас, – и эта любовь не была бегством от другой любви, эта любовь была попыткой приблизиться к тому, что называлось «семья», ты был таким большим, медвежьим, когда прислонил меня к белым кирпичам у того места, где теперь стоит наш выездной чемодан, а за ним между плинтусом и холодильником лежат ракетки для бадминтона, взятые в чехол, пара воланов: один перьевой со сломанными остями – гусиными или кого помельче? – другой – из полиуретана, и рыжая кожаная сумка, в которую мы собираем пластик, упаковки тетрапак, жестяные крышки из-под банок с вареньем, и раз в месяц, если не чаще, ходим напротив Андроникова сдавать мусор, рассовывая его в безымянные, что головы миног, отверстия, робко касаясь черных резиновых шлиц – четверка, пятерка, шестерка, – и этот мусор сох в сушильнице верхнего шкафа, изогнутой, как волюта, напоминавшей мне каждый раз тебя, потому как я люблю конструктивизм, а ты любишь – то ли по недостатку воображения, то ли от боязни времени – барокко.