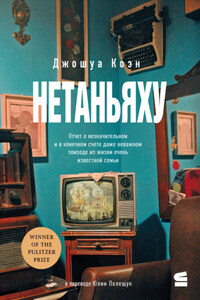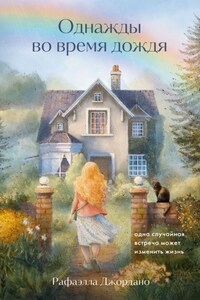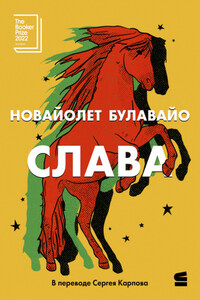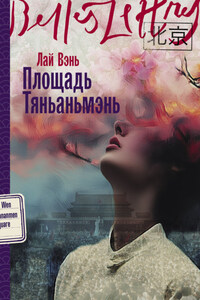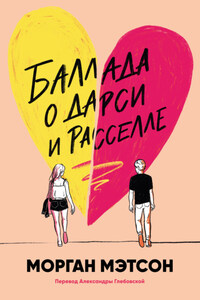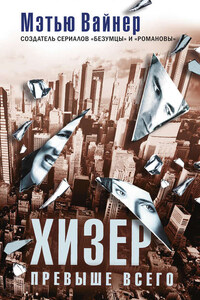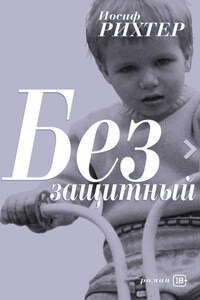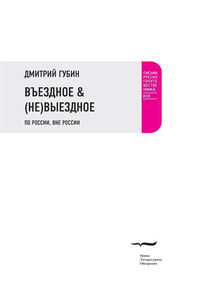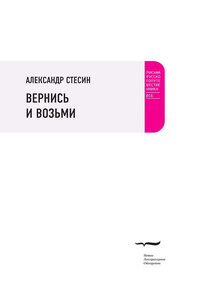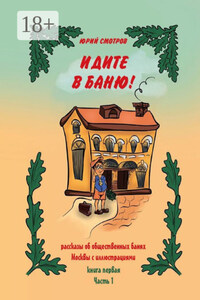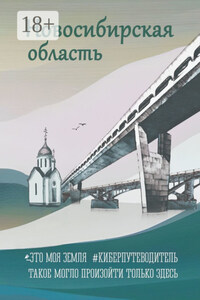Меня зовут Рубен Блум, и я гисторик – да, именно так. Впрочем, полагаю, довольно скоро я войду в историю. Под этим я имею в виду, что умру и сам стану историей – редкий тип трансформации, традиционно предуготовленный представителям более отвлеченных дисциплин. Законоведы после смерти не становятся законом, медики после смерти не становятся медициной, а вот преподаватели химии и биологии, преставившись, разлагаются на химию и биологию, минерализируются в геологию, рассредоточиваются по своей науке, точно так же как математики наверняка становятся статистикой. Тот же процесс происходит и с нами, историками, – по моему опыту, мы единственные из гуманитариев, для кого это справедливо, – единственные, кто превращается в собственный предмет изучения: мы стареем, желтеем, морщинимся и истончаемся вместе с нашими материалами, пока жизнь наша не канет в прошлое, не превратится в субстанцию времени. А может, это во мне говорит еврей… Гои верят, что Слово становится Плотью, евреи верят, что Плоть становится Словом: воплощение куда более естественное и рациональное…
В рамках дальнейшего предуведомления позволю себе привести слова, сказанные мне тогдашним президентом Американской исторической ассоциации (пусть он останется безымянным), я познакомился с ним в студенчестве, вскоре после Второй мировой войны, на каком-то симпозиуме. «А, – произнес он, вяло пожимая мне руку, – Блум, говорите? Еврейский историк?»
Он явно рассчитывал меня уязвить, но лишь польстил мне, и даже ныне я улыбаюсь подобной формулировке. Мне нравится ее нечаянная неточность и двусмысленность, служащая своего рода психологическим тестом: «“Еврейский историк” – о чем вы думаете, когда слышите эти слова? Какой образ приходит вам в голову?» Дело в том, что подобный эпитет и верен, и неверен. Я действительно еврейский историк, но не историк евреев – точнее, профессионально я никогда этим не занимался.
Я историк Америки – или был им. Я недавно вышел на пенсию после полувека преподавания в качестве почетного профессора истории американской экономики (должность учреждена на средства Фонда Эндрю Уильяма Меллона[2]) Университета Корбин в Корбиндейле, штат Нью-Йорк, – отчасти сельской, отчасти дикой местности в самом сердце округа Шатокуа, неподалеку от озера Эри, средь яблоневых садов, пасек и молочных хозяйств, – или, как упрямо твердят надменные географические невежды из Нью-Йорка (который город), «на северной окраине штата». (Некогда я и сам принадлежал к таким горожанам, и, хотя врет старая поговорка, что якобы преподаватели учатся у студентов большему, нежели наоборот, я все-таки почти сразу понял: не следует называть Корбиндейл «городком на севере штата».) Изначально я занимался историей экономики доамериканского периода, эпохи британских колоний, однако репутацию (в ее настоящем виде) заработал в той сфере, которую ныне именуют «теория налогообложения», – в частности, благодаря моим изысканиям в области истории влияния налоговой политики на большую политику и политические революции. Признаться, эта область никогда меня особо не увлекала, однако была мне доступна. Точнее, этой области не существовало, пока я не открыл ее, а открыл я ее, как неловкий Колумб, потому лишь, что она там была. К тому времени, как я пришел в науку, в Америке уже было не протолкнуться, даже в истории американской экономики было не протолкнуться, а в цифрах я всегда соображал неплохо. История налогообложения помогла мне выбраться из гетто колониальной каталлактики[3], а потом и из Америки как таковой в европейские города-государства, в феодальные откупа, в церковные десятины, развитие таможенных и торговых пошлин в Античности… вплоть до Розеттского камня и даже Библии: многие забывают, что и тот и другая, по сути, всего лишь налоговые документы…