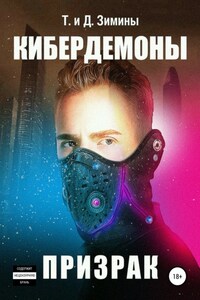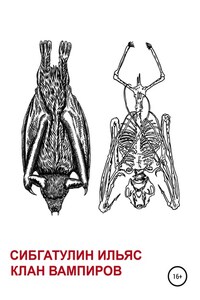Первый был в своей камере – растянулся на жёстком матрасе, но так и не смог сомкнуть глаз. Ни шороха, ни звука не доносилось из полутьмы, только в клетке напротив тихо бредил Седьмой. Они остались вдвоём, а скоро, Первый знал это, он будет совсем один.
Он не помнил своего имени, не представлял, сколько ему лет, не знал ничего, кроме этих стен, на которые сквозь решётки ложились тусклые голубоватые блики. Под ногами был пыльный пол, иногда закапанный кровью и истоптанный десятками ботинок – высоких, на ребристой подошве, которая так больно врезается в поясницу, в живот и в спину… Но он научился правильно себя вести. В общем-то, он всегда это умел, даже когда ещё не догадывался о том, кто он. Вернее, о том, кого из него хотят сделать.
Сначала их было двадцать. Двадцать молодых парней – тощих, забитых, запуганных, брошенных в эти камеры, где пахло кровью и хлором. Иногда их водили в санчасть и мыли под ледяными струями воды, а затем – обратно в тюрьму, где кормили какой-то безвкусной, но очень питательной смесью. А раз или два в неделю (время Первый вскоре научился считать) их выдёргивали из-за решёток. Орущих, плачущих, упирающихся их волокли в лабораторию. Собственно, даже не в лабораторию, а в анфиладу сообщающихся кабинетов, где всем заправлял доктор Толь.
Там их пристёгивали к креслам и смазывали сгиб локтя спиртом, чтобы вогнать в него стальную иглу. Ничего особенного, просто немного больно. Затем док отступал назад и ждал, пока Первого (или любого другого из «мальчиков») не скрутят страшные спазмы, унося их куда-то в вихре жёлто-зелёной мути. Всё в голове вертелось, и Первый проваливался в ничто. А потом вновь оказывался в своей камере, по соседству с другими такими же – ворочающимися, стонущими, тяжело приходящими в себя «пациентами».
Поначалу в памяти Первого не откладывалось ничего. Разрывалась цепочка событий. Первый не знал, что он делал или что делали с ним, когда он находился под действием Препарата. Как не знали и остальные «мальчики». Но то был лишь начальный этап, как потом объяснил ему док. В этот период сознание раздроблено. То, что из него вытаскивают, живёт само по себе, не имея никакого отношения к личности подопытного. Это как бы новая личность. Она действует независимо от основной и содержит в себе только то, что в неё систематически вдалбливают и что вытягивают. А вытягивали здесь из «мальчиков» скрытые таланты.
Для них это были абсолютно новые умения, о которых в своём обычном состоянии никто из них не подозревал. Хотя, собственно, тогда из их двадцатки никто вообще ни о чём не подозревал, потому что ничего не помнил. Даже ходила мысль, что их всех создали искусственно.
Насчёт этого Толь сказал: «Чушь! Просто шок в сочетании с психологической обработкой. Ничего сложного». А вот таланты у них были и правда уникальными. Раньше ни в ком из «мальчиков» не было никаких предпосылок. Например, неуклюжий, грубый и вообще какой-то дурной Пятый вдруг оказался потрясающим художником. Он создавал орнамент поразительной красоты на огромных площадях, хоть нигде этому не учился и даже не знал значения слова «орнамент».
Вначале Пятый работал где-то в закрытых помещениях. Потом доку Толю взбрело в голову, что «экземпляр не опасен и нуждается в социальном поощрении». Вскоре Пятый свободно ползал по стремянкам в коридорах тюрьмы, покрывая её стены узорами.
Потом Пятый исчез. Может, его действительно, как говорил Толь, приспособили под разработку нового военного камуфляжа. А может, и нет. Может, просто избавились от него, как от многих других «ненужных». Или что-то пошло не так, как было с несчастным Седьмым.
Тоже простой, нескладный, но очень милый парень, который поначалу и двух слов-то связать не мог, под действием Препарата научился просто самозабвенно врать, придумывая совершенно удивительные ситуации и байки. Оставалось лишь поражаться тому, откуда у него взялся такой шикарный словарный запас, а ещё – знание специфических областей вроде симптомов болезней. Пару раз ему даже удавалось убедить охрану снять с него наручники и выпустить из камеры. Он, наверное, мог бы сбежать, но вот только всегда возвращался.