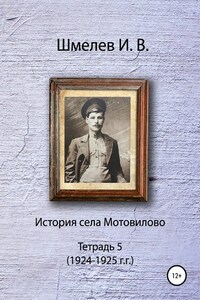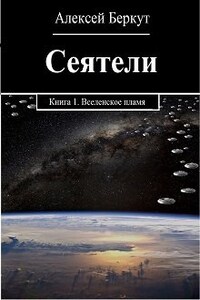Серой безветренной ночью, внизу у забора – слабый шум, за ним – вороватый хруп: под чьей-то неловкой стопой, с глухим треском проломился остаток ноздреватого льда. Резко вскинувшись, он сел на постели, в последние недели расстилаемой прямо здесь, в кабинете. У забора всё стихло, зато через минуту-другую, уже в сенях, на первом этаже – кашель. Чуть спустя – разговор.
Голоса были неясными, а вот глухой, с металлическим призвуком кашель, тот звучал отчётливо и, без сомнения, что-то напоминал. В одном белье, не накидывая халата, он сделал несколько шагов и легонько толкнул двустворчатую дверь. Дохнуло примороженной апрельской гнилью: Тобол давно вскрылся ото льда, но в городе, по рассказам, ещё кое-где лежал снег. Грязно-жёлтые, смёрзшиеся, продырявленные мочой островки его попадались и во дворе бывшего губернаторского особняка. Однако набегала уже из азиатских степей яро-красная теплынь, звенела в ночном воздухе птичья пустая сухость…
Не решаясь двинуться дальше, он остановился на пороге и постарался себя успокоить: это снова поварской ученик Седнёв затеял игры с охраной! Ночная тревога была не ко времени, мешала сосредоточиться на главном: до отправки в невыясненном направлении – всегдашний осведомитель Кирпичников утверждал, что в Екатеринбург, а после, возможно, и в Москву – оставалось всего два-три дня.
Внизу скрещенья и развилины голосов обозначились ясней.
– …даром я, что ль, сквозь кордоны ломил, через Тобол переправлялся?
– Даром не даром, а не пущу. Отвечай, как сюды проник? Да руки, контра, держи перед собой, чтоб я их видел!
– Через калитку и проник. Пусти чернеца, а, солдатик? Рецепт для государя имею чудодейственный.
– Глохни, леший! Был государь, да весь вышел. Говори: как мимо караула проскользнул?
– Филя ты, филя! Да за такие слова про государя я б тебя одним мизинным пальцем сколупнуть с поста мог.
– Гляди, как бы самого к стенке не поставили!
– Это почему ж я у стенки стоять должон?
– Да ты, что ли, с неба упал, дядя?
– Ага, оттудова.
– Вот доложу – р-раз тебя, и в Чека! «Шпоры» и не таких уму-разуму учили. Мигом в штаб Духонина определят.
– Шпоры – это кто?
– А ты допытлив, дядя. Шпорами мы, красноармейцы, чекашных зовём. Ох, чую, пустят тебя в расход!
– Так уж хотели в Омске. Не вышло. Ты скажи лучше: кой нынче год, знаешь?
– Год?.. Второй год революции. Иди отсель, дядя, иди. Не велено на посту болтать.
– Да я не про то. От сотворения мира год какой? Не знаешь, так я скажу: 7427! А конец мира – он в 8400 году быть назначен. Так что уж семь лет как обратный отсчёт начался. И как раз в нонешний, седьмой год последнего тысячелетия, решится: быть ли окончательному концу мира или мир к лучшему переменится! Конец мира – слышь-ка? – предвосхищён, а не предопределён ещё.
– Ты что несёшь, дядя? Вижу, болен ты. Уже второй год, как мир к лучшему переменился!
– Вижу, грамотный ты… А чего ж тогда не в штабе, чего тут торчишь?
– Грамотный-то я не шибко, а по цифрам разбираю. Шёл бы ты скорей отсель. Старшой вернётся, несдобровать тебе. А говорю с тобой, потому как жаль мне тебя! Ишь, мокрый, как хлющ. И дрожишь, будто в лихоманке. Так тут и дохтор есть.
– Раз один только дохтора меня и пользовали. Это когда я чумой, по-лекарски пестиленцией, хворал, – опять кашель, но уже со смехом, а смех – тот с ехидцей…
По этой-то ехидце, смешанной с металлическим кашлем, назвавшийся чернецом признан и был. Сразу вспомнилось: пятнадцать или шестнадцать лет назад, втайне от всех, посетил он терзавший наяву и во снах Михайловский замок. Посетил потому ещё, что в последний год почувствовал в императоре Павле нечто близкородственное, магнетическое, то, чего ни в отце, ни в матери не чувствовал. В «Дневнике» записей о предстоящем посещении не делал, сопровождавшим приказал ждать у подъёмного моста.