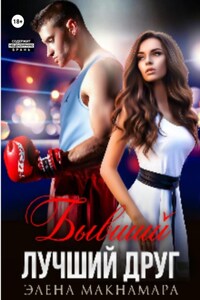Рассказ
1
Бешеный песчаный смерч рванул книзу застиранную занавеску, хлынул в оголившееся окно лунный дрожащий свет, только что поносивший её последними словами подполковник, ещё раз крупно, всем телом вздрогнул и резко смолк…
2
Подполковник Гарай так и умер на ней. Умерло в подполковнике всё и сразу: заострился нос, в уголках губ проступила кровь, стали затягиваться мутно-развратной плёнкой, – как у выброшенной на сушу рыбы, – стекленеющие белки. И только мужское его непотребство (так звала она любимую Гараеву игрушку) продолжало упорно вздрагивать и сокращаться, вопреки смерти выплёскивая в неё жизнь, жизнь, жизнь! Всего подполковничьего тела она не видела: только, откинутую вбок, лохматую голову с русо-пепельными волосами, в лунном свете отдающими лесной зеленцой. Шевельнувшись – почувствовала: стал Гарай куда как легче! «Это душа его тяжко-грешная отлетела», – уговаривая себя, попыталась она из-под лешака Федьки, – так за глаза звали его подчинённые, – потихоньку выбраться. А не вышло: вдруг заверещал по-бабьи, розовощёкий адъютантик, послышались за окном обрывки английской и польской речи. Осенний ветер обрывки унёс, но совсем рядом, в предбаннике, треснул пополам голос майора Горового: «Знов розпуста! Та йду я, йду!» Она замерла и решила переждать: пусть все и сразу увидят, от чего умер Гарай.
Остывшая к рассвету халупка, приспособленная под баню, враз наполнилась кашлем и голосами. Но страха голоса не вызвали. Только любопытство, которое она от чужаков, сбежавшихся на крик адъютанта, всегда наблюдавшего за ними в щёлку, умело скрыла. Адъютанта Гараю иметь не полагалось, однако, наперекор всем, он дурашливого пацанёнка приказом своим назначил: для игры в поддавки и трепотню про баб.
В последние годы ей казалось: чем больше у тебя мужиков – тем круче взбурляет жизнь. Любила, однако, не их: себя. Даже сейчас, позабыв про окочурившегося на ней мужика, начала полегоньку бока свои ласкать, оглаживать. Может, и поэтому, смерть лешака Федьки вдруг перестала волновать. А, может, и потому, что был подполковник тем ещё отморозком: раненных москалей кончал без раздумий, а одного своего, такого же, как и сам он скупердяя-западэнца из штурмовой роты «Карпатская Сечь», в расположение их части попавшего случайно, – закопал живьём. Для войны Гарай, как ей думалось, годился мало: был нерасчётлив, криклив, но в остальном, хоть и староват, а цепок, подвижен, иногда – ребячливо добр.
Дальше разговоров дело в халупке не шло. Она прислушалась. «… z kurwa zaporoska nie poradził sobie, psia Krew!» «Tak. Sprawa kepska, panie Włodzimierzu». Два поляка, словно со сковородки на сковородку, перекидывали свои шипяще-скворчащие слова, исподтишка поглядывая на молчаливого штатника: анцыбала с чекмарями для утрамбовки земли вместо рук. Тут, ещё раз вильнув перед чужаками хвостом, снова стал заливисто вскрикивать адъютант: нежно-изгибистый, сладко-пухлый, но к женско-мужской любви абсолютно не склонный.
– Дав дуба, а всэ не вгамуеться! От сиськохват так сиськохват! – стаскивая с неё Гарая, восторженно пыхтел, адъютантик.
Поляки от бабы, освобождённой из-под трупа и не враз сомкнувшей раскинутые ноги, дружно отвернулись, а штатник продолжал неотрывно наблюдать мёртвое, но всё ещё твердокаменное Гараево хозяйство. Это – спасло. Пока анцыбал немел от восторга, а поляки в силу своей шляхетности и непритворного почтения к бабам (даже к «украинским подстилкам» как они в разговорах меж собой их называли) стояли лицом к стене, она, завернувшись в пупырчатое рядно, дала дёру.
– Bury him, and then her, – сказал штатник. А для адъютанта повторил по-русски: – Закопайте его, потом её.