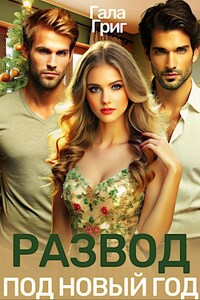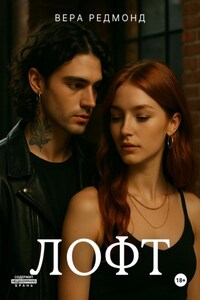Моей судьбе… заняться,
видно, нечем…пытается запутать всё… что просто. То дарит
неожиданные встречи, а то швырнет на одинокий
остров…
(Т.В.Авдеева)

В хирургическом отделении остро и горько разило фенолом и
хлоркой. Для человека, неподвижно сидящего на жесткой, обитой
дерматином лавке, этот больничный запах навсегда связался с бедой.
Вот так же он сидел семь лет назад перед стеклянными дверями
операционного блока, возможно, даже на этой самой скамье. И так же
висели над головой круглые часы с черными стрелками, нахально
отсчитывающие счет жизни, его жизни. «Не дай бог, не дай бог», —
билась в его мозгу одна-единственная мысль, и в душе поднималась
волна чего-то мрачного, темного, чего он и сам не понимал и боялся.
От этой мысли руки его непроизвольно сжимались в кулаки, рот
искажался в странном оскале, не то плача, не то крика. Поперечная
складка на лбу, пролегшая меж густых черных бровей, прибавляла
суровому лицу мужчины лишний десяток лет, хотя не так давно
исполнилось ему всего сорок два.
Пятнадцатый год занимал Петр Шадрин должность участкового в
родном поселке, знал про земляков все, или почти все: кто самогонку
тайком варит, а кто на руку нечист и при случае готов утащить с
соседского двора то, что плохо лежит. Хоть и нелегкая эта работа, а
все равно ни разу не пожалел Петр, что перевелся в поселок, хоть и
прочили ему в городе неплохую карьеру. Да он и сам поначалу именно
с городом связывал свою дальнейшую судьбу. Петру, прошедшему армию,
Крым и рым, скучна показалась сельская жизнь. Выбор-то невелик: или
на фарфоровую фабрику глазировщиком или за баранку грузовика или
трактора, хорошо армейские друзья надоумили в школу милиции
поступить.
…Жил он в общежитии, а домой на выходные приезжал, благо от
Новгорода до поселка всего сорок километров. Рыночная экономика
набирала обороты, кто пошустрее да посообразительнее, открывал
ларьки, торговые палатки, народ прирастал деньгами, а где деньги,
там и криминал. Работы у милиции прибавилось — тут тебе и кражи, и
ограбления, и новый вид — рэкет. Иной раз и домой выбраться не
удавалось. А как приезжал, так душа рвалась на части от вида женщин
в пестреньких ситцевых платках, стоящих вдоль трассы со своими
самодельными прилавками. Фарфоровая фабрика уверенно шла на дно,
выдавая зарплату сервизами, кружками и статуэтками. Но Петр матери
запретил чашками-плошками торговать: «Пока работаю, чтоб не смела
на трассу выходить. Тоже мне коробейница». Мать притворно вздыхала,
жалилась соседкам, с тайной гордостью, вот, мол, какой сынок-то у
меня, вона как мать родную жалеет, заботится. Соседки губы
поджимали да вздыхали — повезло тебе, Валюха, с сынком, ничего не
скажешь, даром что муж горькую пил, царство ему небесное, так
господь тебе сыночка толкового сподобил.
Материна уверенность, что сын в городе большим человеком стал и
соседям передалась. Сначала одна к ним в избу зашла, робко у дверей
мялась-мялась, а потом и выдала: «Помоги, Петр Ильич, Христом богом
прошу. Гришу мово прав лишили, а как же мы теперь жить будем?» Так
и сказала — Петр Ильич — сроду к Петру так на селе не обращались.
Он хотел уж рукой махнуть да отказаться, не гаишник же, в самом
деле, но мать смотрела с таким выражением... и жалость к непутевому
Гришке и гордость за сына и чувство собственной значимости
светилось в ее глазах, что Петр хмыкнул и кивнул, мол, сделаю, теть
Клав, не переживай. И помог, как ни странно. Не так уж и сложно
оказалось. Ворон ворону глаз не выклюет, и человек с человеком
договориться может. С тех пор и повелось, как ни приедет, так уже
бежит кто из соседей с какой-никакой просьбой или с жалобой.