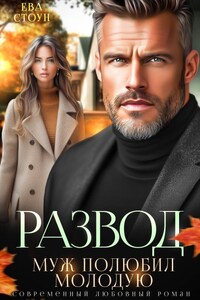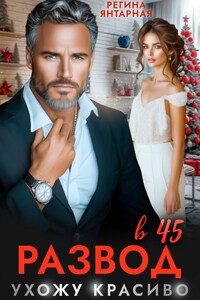– Эй, Чума! Очнись. Хватит мечтать.
Пляши. Письмо тебе. От кавалера… – пожилая зечка, помахивая
конвертом, подошла к койке. Та, к которой она обращалась, молча
смотрела в потолок застывшим взглядом, потом, словно уловив
движение, выпростала руку из-под головы. Опасливо подойдя ближе,
письмоносица вложила в эту руку конверт. – Читать-то будешь? –
поинтересовалась, видя, как конвертушел под подушку. Не дождавшись
ответа, пожала плечом и, хмыкнув: «вот Чума!», отошла прочь.
Женская колония усиленного режима
продолжала жить своей жизнью. Заключенная с говорящей кличкой Чума
уже десять месяцев отбывала свой немалый срок. И было ей двадцать
восемь, а когда срок закончится, будет уже за сорок, хорошо за
сорок. Но она не думала об этом, да и думала ли, вообще, хоть о
чем-нибудь никто не знал. Но одно знали все: Чуму лучше не
трогать.
Рыжая Марго, крупная, статная
деваха тридцати с небольшим, впервые увидев новенькую, заявила:
«Моя», и попыталась дотронуться до груди, отрешенно сидящей на
койке коротко, почти наголо остриженной девушки. Никто так и не
понял, что случилось, но Марго отлетела на пол, хватая воздух ртом,
а стриженая так и осталась сидеть, даже глаз не подняла. К Маргоше
подлетела одна из ее прихлебательниц и, помогая подняться, стала
что-то горячо шептать на ухо. Марго сначала отмахнулась и двинулась
к новенькой с намерением поквитаться, но потом прислушалась к
шепоту товарки и, удивлено вскинув брови, позволила увести себя в
свой угол.
Весь барак шептался до вечера:
«Арчеладзе… при отягчающих… пять жмуриков…» Ночью был шум и грохот.
Прибежали надзиратели. На полу корчилось трое зечек. На вопрос:
«Кто?», конечно не ответили. Подняли с коек всех. Начальница смены
прошла вдоль шеренги сонных женщин, внимательно оглядела целые
костяшки рук у новенькой и сказала только: «Смотри, Чумакова…»
Больше к ней никто не приставал.
Только где-то, через
месяц Чумакова вдруг внезапно подошла к рыжей Марго и, ни
слова не говоря, влепила ей по физиономии. Марго взвыла и вцепилась
обидчице в лицо – началась драка. Прибежали еще зечки, и драка
переросла в избиение. Опомнились обезумевшие тетки, только когда
увидели, что Чумакова престала шевелиться. В лазарете она пролежала
долго. На грани жизни и смерти. От сильных ударов в живот у нее
случился выкидыш. Потом, уже в бараке, к ней подошла одна из
женщин: «Так бы и сказала, что хочешь от ребенка избавиться. А так
мы грех на душу взяли… Эх, ты… Чума…» Так и приклеилась к ней это
прозвище.
Ее историю обсуждала вся зона. Но
поговорили, поговорили и решили раз и навсегда, что с ней лучше не
связываться: коли уж мужа, широко известного в весьма узких
кругах и еще четверых столь же серьезных мужиков, грохнула не
дрогнувшей рукой. Разговаривала она мало. Передач ей никто не слал.
Ни с кем она не сдружилась. Дисциплину не нарушала.
Существовала, одним словом.
Через полгода Чума внезапно проявила
интерес к молодой девице, недавно переведенной из другого барака,
Светке-Малявке. К ней давно приглядывалась Маргоша и все норовила
пощупать. Малявка слабо повизгивала и отбивалась. Но все видели,
что это до поры до времени, просто у Марго еще аппетит не
разгулялся. Как-то Чума шла с обеда и наткнулась на Малявку,
рыдавшую, за штабелями каких-то досок. Что дрогнуло в душе Чумы,
сказать трудно, но она остановилась и долго смотрела на судорожно
всхлипывавшую девчонку. Малявка почувствовала чей-то взгляд,
обернулась, увидела Чуму и, жутко перепугавшись, съехала на землю.
«Ты чего?» – прошептала она. Ничего Чума не ответила, развернулась
и пошла дальше. Но вечером, когда Маргоша подсела к Малявке на
койку и запустила руку той за ворот рубахи, рядом, как приведение
возникла Чума. «Сгинь», – бросила негромко. Маргоша вскочила, как
ужаленная, секунду они стояли, сверля друг друга взглядами, потом
Марго усмехнулась и отвалила, буркнув: «Ну-ну, сладенького
захотелось…» А Чума развернулась и пошла к своей койке. Малявка до
отбоя просидела в своем углу, испуганно тараща глаза. Ночью к ее
койке подвалила Марго, но тут со стороны донеслось негромкое:
«Сгинь», и она с ворчанием убралась восвояси.