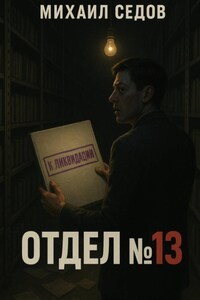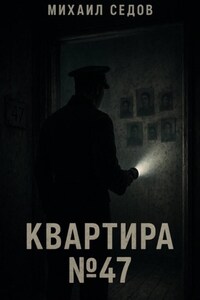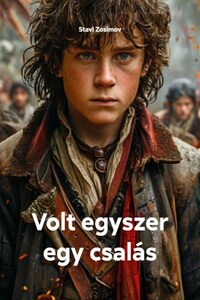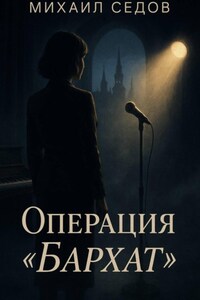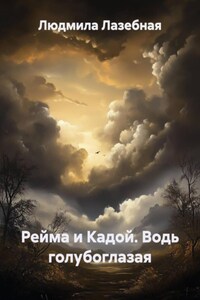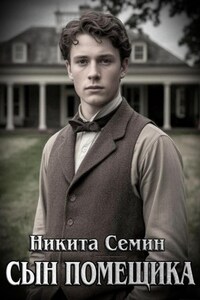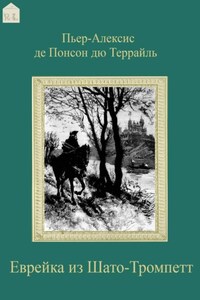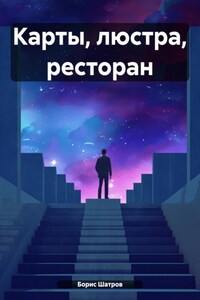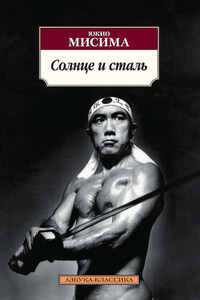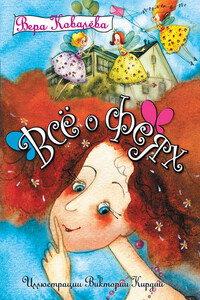Глава 1. Пыль на погонах прошлого
Утренний свет, процеженный сквозь запыленные стекла высокого окна, имел цвет старого пергамента. Он ложился на длинные ряды стеллажей косыми, бессильными полосами, в которых лениво кружились мириады пылинок – настоящая кровь архива, его безмолвные, невесомые тельца. Я всегда думал, что каждая такая пылинка – это микроскопический фрагмент стершегося слова, высохшей капли чернил, отпечатка пальца давно умершего делопроизводителя. Вся история страны оседала здесь, на полу, на полках, на наших плечах, и мы вдыхали ее с каждым вдохом. Воздух в секторе «В» пах именно этим: сухой бумагой, мышиным клеем и слабым, почти исчезнувшим ароматом сургуча. Это был запах порядка, запах сохраненной вечности, и он успокаивал меня, как ничто другое.
Мой рабочий стол, третий от окна, был островком безупречной геометрии в этом океане прошлого. Стопки папок, выровненные по линейке. Карандаши, заточенные до одинаковой длины и уложенные параллельно краю столешницы. Металлическая коробочка со скрепками, полная ровно до половины – нарушение пункта 7.2 инструкции по инвентаризации канцелярских принадлежностей, но я уже подал заявку на пополнение, и ее копия, заверенная печатью завхоза, лежала в специальном лотке. Порядок – это не просто привычка. Это философия. Это единственное, что удерживает мир от распада в хаос первоначальной неразберихи. Хаос начинается с мелочей: с карточки, положенной не по алфавиту, с запятой, поставленной не на свое место. Моя работа заключалась в том, чтобы ставить эти запятые на место. Я был скромным стражем мирового порядка.
– Соколов, к заведующему. Срочно.
Голос Нины Петровны, нашей старшей сотрудницы, был сухим, как треск ломающегося сухаря. Она не отрывала взгляда от своей картотеки, словно команда была сгенерирована самим механизмом шкафа. Я послушно встал, одернул пиджак. Пиджак был не новый, отцовский, немного мешковатый в плечах, но из хорошей, еще довоенной шерсти. Он тоже был частью порядка. Связью с прошлым, которое я оберегал.
Кабинет Павла Матвеевича находился в конце нашего длинного коридора. Ковровая дорожка, когда-то бордовая, а теперь цвета запекшейся крови, съедала звук моих шагов. Двери кабинетов, обитые коричневым дерматином, были похожи на лица спящих великанов. На каждой – латунная табличка с фамилией. Ничего лишнего. Функционально. Безлично. Я постучал – два коротких, отчетливых удара, как предписано негласным этикетом.
– Войдите.
Павел Матвеевич сидел за своим массивным столом, похожим на мавзолей. Он был человеком грузным, с лицом, которое, казалось, отекло от бесконечного сидения и важности. Его маленькие глазки изучали меня поверх очков в толстой оправе. На столе перед ним, в идеальном одиночестве, лежала тонкая папка бледно-серого цвета.
– Садитесь, Кирилл Андреевич.
Я сел на стул для посетителей, жесткий и неудобный, спроектированный так, чтобы никто не засиживался. Спину держал прямо.
– У меня для вас поручение, – начал он, не меняя тона. – Особой, так сказать, важности.
Он сделал паузу, давая мне возможность проникнуться. Я проникся.
– В спецхран, сектор семь-бис, на прошлой неделе поступила партия невостребованных дел. Из смежного ведомства. Годов сороковых-пятидесятых. Их нужно разобрать, систематизировать и составить опись. Работа кропотливая, требует внимания. Я подумал о вас. Вы у нас сотрудник аккуратный. Исполнительный.
Спецхран. Семь-бис. Эти слова прозвучали в стерильном воздухе кабинета как-то по-особенному глухо. Спецхран был сердцем нашего архивного лабиринта, его самым потаенным и самым защищенным уровнем. Туда имели доступ единицы. Дела, которые там хранились, не предназначались для историков будущего. Многие из них не предназначались вообще ни для кого. «Невостребованные дела» – формулировка была гладкой, обтекаемой, как галька. Что это значит? Кем не востребованные? Семьями? Историей? Самим государством?