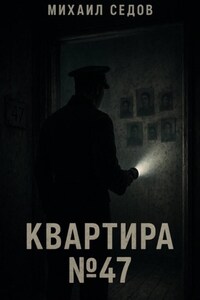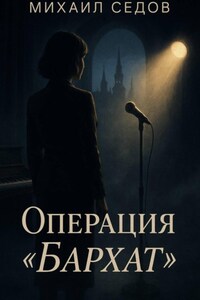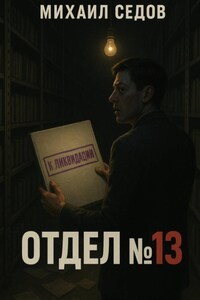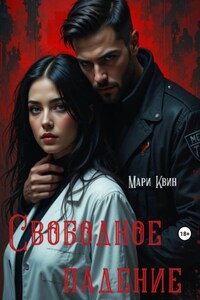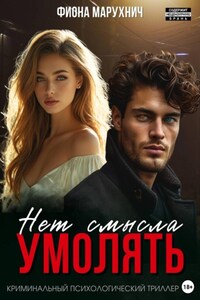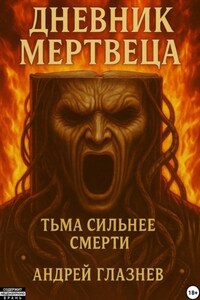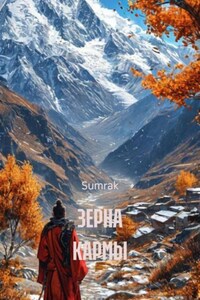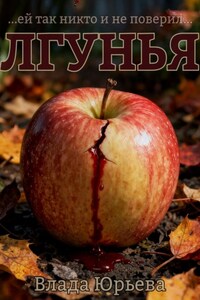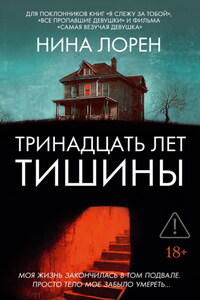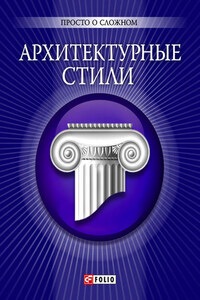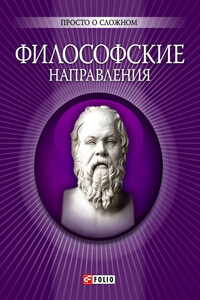Дверь, которую не открывали
Октябрь цеплялся за Таллин мокрыми, костлявыми пальцами. Он соскребал позолоту с лип, превращая ее в грязную кашу под ногами, и полоскал город в бесконечном дожде, мелком и надоедливом, как зубная боль. Небо нависало над черепичными крышами Старого города и панельными коробками новых районов низким сводом из мокрого, свалявшегося войлока. Ветер с залива приносил не свежесть, а лишь сырую тоску и металлический привкус соли, который оседал на губах и, казалось, проникал в самую душу. Я шел по своему участку, и подошвы казенных ботинок издавали чавкающий звук, будто я брел по болоту, а не по брусчатке одной из улочек, примыкавших к Каламая. Моя серая милицейская шинель отсырела и потяжелела, впитав в себя всю промозглую безысходность этого дня. Она давила на плечи, и это давление было не только физическим.
Я служил в Таллине второй год. Меня, ленинградского детдомовца, после школы милиции занесло сюда распределением, как осенний лист в чужую лужу. Город меня не принял. Он смотрел на меня узкими окнами готических домов, молчал на чужом, гортанном языке, пах рыбой и углем. Я был здесь элементом чужеродным, деталью от другого механизма, вставленной не в тот паз. Моя форма, мой язык, сама моя суть человека, воспитанного системой, для которого государство было единственным родителем, – все это здесь выглядело неуместным, как армейский сапог на бальном паркете. И я отвечал городу тем же: глухим, молчаливым раздражением. Я делал свою работу. Регистрировал пьяные драки на танцплощадках, составлял протоколы на мелких спекулянтов, проводил профилактические беседы с неблагонадежными элементами. Я был винтиком в огромной машине правопорядка, и моя задача была простой – вращаться без сбоев и не задавать лишних вопросов.
Дом номер двенадцать по улице Нигулисте был старым, еще дореволюционной постройки. Серый облупившийся фасад, потрескавшаяся лепнина над окнами, похожая на шрамы. Он стоял, насупившись, вжимаясь в своих таких же пожилых и усталых соседей. Двор-колодец, куда никогда не заглядывало солнце, пах прелью и кошками. На первом этаже, в квартире номер сорок пять, жила гражданка Алида Пээбо, пенсионерка, бывшая учительница эстонского языка. Она и была причиной моего визита. Уже третий раз за месяц она жаловалась на шум из квартиры сверху, из сорок седьмой.
Дверь мне открыла крошечная, высохшая старушка, похожая на серую птичку. Ее лицо было покрыто такой густой сеткой морщин, что казалось, будто оно вот-вот рассыплется в пыль. Светлые, почти прозрачные глаза смотрели на меня с тревогой и какой-то застарелой надеждой.
– Товарищ лейтенант? Проходите, прошу вас, – ее русский был почти безупречным, лишь с легким, поющим акцентом, который делал гласные длиннее, чем нужно.
В ее квартире пахло корвалолом и пыльными книгами. Все поверхности были заставлены и застелены: на столе – кружевная салфетка, на диване – вышитая подушка, на комоде – фарфоровые пастушки и слоники, семь штук, на счастье. Это был маленький, тщательно оберегаемый мир, крепость из старых вещей, защищавшая свою хозяйку от большого, непонятного мира за окном.
– Опять шум, гражданка Пээбо? – спросил я, снимая фуражку.
– Опять, товарищ лейтенант. И не шум даже… Скрежет. Будто мебель двигают. Тяжелую. По ночам. И шаги. Один человек, ходит туда-сюда, туда-сюда. Часами. У него шаг тяжелый, как у больного. Шаг-волочит, шаг-волочит… Я спать не могу. Сердце колотится, вот тут, – она прижала к груди крошечную, похожую на птичью лапку руку.
– Вы уверены, что звук именно из сорок седьмой?
Она посмотрела на меня так, будто я спросил, уверена ли она, что небо наверху.
– Конечно. Откуда же еще? Подо мной склад книжного магазина, там по ночам мыши шуршат, а не мебель двигают. А сверху… он. Затворник этот.