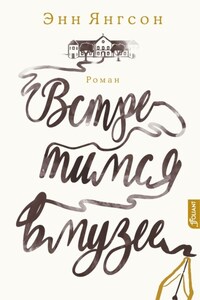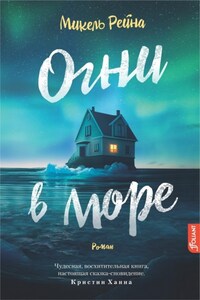Лангедок, монастырь в Верфёе. 11 февраля 1367
– Брат Антонен, мы сейчас себе яйца отморозим.
– Не пристало монаху произносить такие слова.
– Для монаха главное не слова, а истина… А истина состоит в том, что мы себе яйца отморозим.
– Холод в самом деле непомерный.
– “Холод непомерный!..” Мы с тобой из разных конюшен, брат Антонен. Будь проклят этот английский холод!
– Скорее уж францисканский холод!
– Ох уж эти говнюки францисканцы!
– Прекрати, Робер.
– К счастью, Господь защищает их не лучше, чем нас, и достойно вознаграждает за проповедь бедности. Зима – проклятье, хоть и справедливое. Говорят, они дохнут целыми тучами, как саранча, с благословения славной матушки-природы, этой злобной карги…
– Поторапливайся, мы опаздываем.
– Если бы ты не торчал в нужнике битый час, мы бы не опаздывали.
– Кишки подвели.
– Да, еда и правда дрянь.
– Ты же сам ее готовишь!
– Из того, что мне выдают, чуда не сотворишь. Я не Иисус, Антонен, и не умею превращать навоз в розовую воду.
– Слышишь? Нас зовут.
– Вот срань, это ризничий!
Сквозь туман до них доносился строгий голос. Они почти бегом припустили к клуатру. С ласточкиных гнезд, вмерзших в углы арок, свисали ледяные слезинки. Антонен и Робер обогнали старого монаха, ковылявшего в часовню на лауды – первую службу нового дня, где возносили хвалу утренней заре и воскрешению.
Половина четвертого ночи. Солнце еще и не думало подниматься. Лауды были главной пыткой для монахов.
– В этот час они, наверное, и приходят…
– Кто?
– Демоны, которые являются за человеком в день его смерти… Во время лауд.
– Тише, он идет.
К ним приближалась черная фигура. Робер замедлил шаг, давая другу немного обогнать его, и первый удар обрушился на Антонена. Как обычно, самый сильный. Второй, менее чувствительный, пришелся ему по спине. Ризничий снова занес палку, и они поспешно юркнули в часовню.
– Вот спасибо, – прошипел Антонен.
– Зато все почести достались тебе!
– Почетный удар палкой?
– Между прочим, Христос за тебя муки принял.
– И за предателей тоже.
– Аминь.
Свечи дрожали, словно и им было холодно. Желтое пламя трепетало, его скудный свет зябко жался к горячему фитилю. Позади них, разделяя часовню надвое, высилась стена темноты.
За ней скрывался приор.
Под коленями монахов хрустела тонкая корочка льда. Тишину то и дело нарушал кашель, но пространство немедленно поглощало его звуки. Братья полчаса молились про себя под бдительным оком ризничего, который стоял над ними и высматривал задремавших.
В темной глубине, где еле теплился огонек лампады, слышалось затрудненное дыхание, пугающее, словно жалобные вздохи из потустороннего мира. Тишина и холод наводили на мысли о смерти. По спинам монахов пробегал озноб одиночества.
Громкий голос приора призвал вознести хвалы Господу:
– Alleluia laudate dominum in sanctis eius laudate eum in firmamento virtutis eius[1].
Антонен покосился на Робера, молившегося рядом. На странного брата Робера, который упорнее всех отлынивал от повседневных трудов, но проявлял усердие в молитве. Склонившись до земли, стиснув переплетенные пальцы, он бормотал слова псалма столь же истово и страстно, как только что поносил раннюю утреннюю службу и никчемных францисканцев и англичан.
Его вера была такой же крепкой, как и его голова.
Вера ему досталась не как подарок свыше. Он заработал ее ценой лишений и страданий. Отец не позволил ему выбирать себе путь. Просто притащил его, двенадцатилетнего, в обитель и оставил братьям, а на прощание сказал, словно припечатал: “Раз уж ты ни на что не годен, сгодишься Господу”.