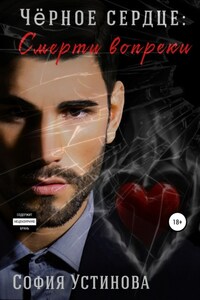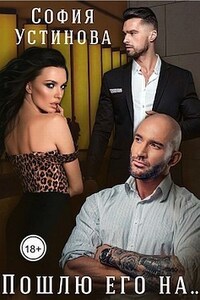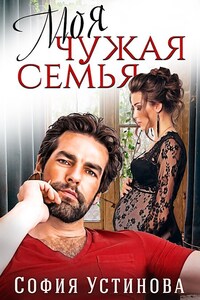Холодный ноябрьский ветер швырял в лицо пригоршни колкой ледяной крупы. Он нагло забирался под тонкий воротник моего единственного приличного пальто и, казалось, пронизывал до самых костей, замораживая душу. Я возвращалась домой поздно, как всегда. Выжатая до последней капли, опустошённая двумя работами, которые всё равно не приносили и десятой доли того, что было нужно. В голове монотонно, как метроном в пыточной, стучали цифры: долг клинике, долг «кредиторам», долг за проклятую квартиру. Этот стук давно превратился в саундтрек моей серой, беспросветной жизни, вытеснив из неё все остальные звуки, все краски и надежды.
Арка, ведущая в наш старый московский двор-колодец, всегда казалась мне порталом в уныние, но сегодня она превратилась в разверстую пасть хищного, голодного зверя. Единственная тусклая лампочка над подъездом конвульсивно мигала, как в дешёвом фильме ужасов, выхватывая из промозглой темноты обшарпанные кирпичные стены и дверь, испещрённую уродливыми граффити. Я ускорила шаг, почти бежала, мечтая только об одном: как можно скорее оказаться за своей дверью, запереться на все замки, рухнуть в кровать и провалиться в забытьё.
Но сегодня моим мечтам не суждено было сбыться.
Они вышли из тени так внезапно, что я едва не вскрикнула, подавив рвущийся из горла звук. Две массивные, как шкафы, фигуры перегородили мне путь к спасительному подъезду. Один был ниже и плотнее, с лицом, похожим на недовольный бульдожий блин, со сплющенным носом и тяжёлой челюстью. Второй – выше, тощий и жилистый, с неприятной, скользкой ухмылкой на тонких губах. От них разило дешёвым табаком, перегаром и неприкрытой, животной угрозой, от которой в воздухе густел страх.
– А вот и наша пташка, – протянул тот, что повыше, и его маслянистый, вкрадчивый голос заставил мою кожу покрыться ледяными мурашками. – Вероника Степановна, собственной персоной. А мы вас заждались, сил нет как.
Сердце не просто ухнуло, оно сорвалось с цепи и рухнуло куда-то в район замёрзших пяток. Я знала, кто это. Те самые «друзья» моего покойного отца, чьи сообщения и звонки с каждым днём становились всё более настойчивыми и откровенными.
– Я… я всё отдам, – пролепетала я, инстинктивно делая шаг назад и натыкаясь спиной на ледяную, мокрую стену дома. – Мне нужно ещё немного времени.
– Времени? – он театрально хмыкнул, делая шаг ко мне. Его взгляд был липким, грязным, и я чувствовала себя насекомым под лупой. Второй, «бульдог», молча обошёл меня и встал с другой стороны, отрезая единственный путь к бегству. Ловушка захлопнулась. – Девочка, твоё время кончилось. Счётчик тикает, проценты капают. Папаша твой был игрок азартный, но безответственный. А долги, Вероника, по наследству переходят. Вместе с этой квартиркой и твоей больной сестричкой.
При упоминании Лизы внутри меня всё оборвалось. Животный страх за неё придал мне сил.
– Не смейте её трогать! – вырвалось у меня с такой яростью, на которую я сама от себя не ожидала.
Тонкогубый осклабился, обнажив прокуренные жёлтые зубы.
– О, какие мы колючие. Это хорошо. Смелость тебе пригодится. – Его взгляд медленно, оскорбительно нагло скользнул по моей фигуре, оценивающе, будто я была вещью на распродаже. – А ты, я смотрю, девочка ничего так. Складненькая. Фигуристая. Может, натурой отдашь? Правда долго работать придётся…
Он не ждал ответа. Его рука легла мне на плечо, и пальцы сжались с силой стальных тисков, выбивая из меня весь воздух. Второй, «бульдог», в этот же момент грубо схватил меня за другую руку, с размаху впечатывая в стену. Удар затылком о кирпич был несильным, но унизительным. Я дёрнулась, но они держали мёртвой хваткой. Рука тонкогубого скользнула с моего плеча вниз, к груди. Я застыла, парализованная ужасом и омерзением. Его пальцы бесцеремонно, грубо сжали мою грудь через тонкую ткань пальто и свитера. Я задохнулась от унижения, в глазах потемнело.