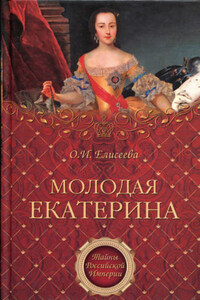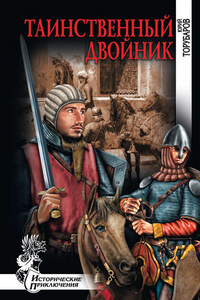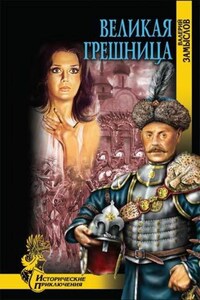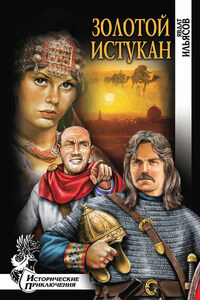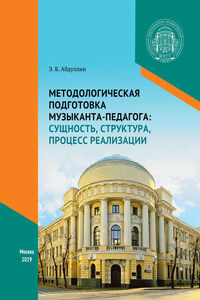Санкт-Петербург. 13 июля 1826 года.
Все было кончено.
Веревки перерезаны, и уже остывающие тела спущены на доски.
Рассвет разгорался. Пятый час утра в июле ясен и свеж. Бриз с залива еще не поднялся, лелея покой отступающей ночи.
В три, когда осужденных вывели, едва развиднелось, и люди с трудом могли рассмотреть собственные руки. Только тяжкое бряканье кандалов убеждало, что они не спят.
Часовые молчали. Священник в предпоследний раз подошел с крестом.
– Ведете пятерых разбойников на Голгофу? – усмехнулся Муравьев-Апостол.
– Покайтесь и будете одесную Отца.
– Поздно, батюшка. Да и разве мы не каялись? – Он говорил правду. Каждого из пятерых обнадеживали помилованием. В расчете на это сколько было сказано такого, о чем теперь вспоминать и стыдно, и смешно.
Бестужев-Рюмин плакал. По городу разнесся слух, что самому младшему из приговоренных восемнадцать, и государь решился его пощадить. Но в двадцать пять человек способен отвечать за себя, и император соизволил особо обратить внимание, сколько народу вовлек в политический разврат этот юноша.
– Полно, – ободрял друга Муравьев. – Недолго осталось. Там уж будем вместе.
– И то перед Богом грех, – всхлипнул Бестужев.
Подполковник потупился, но не отступил от него.
Рылеев шел с поднятой головой. Он был жертва при заклании и верно понял свою роль.
– Я умираю как злодей, да помянет меня Россия!
Каховский молчал. Он все сказал на следствии. Горько сожалел о Милорадовиче. Негодовал на покойного императора. Уверял, что дальше будет хуже. Видел слезы молодого царя. Слышал его отзыв: «Это человек, исполненный самой горячей любви к родине, но законченный изверг». Чего же больше? Утешаться тем, что ты единственный, кого государь действительно хотел помиловать?
Пестель вышел, понурив голову. Без речей. И, как видно, молился. Он всегда много думал о Боге, только мысли его на сей счет иным казались странными. Вид виселицы привел полковника в замешательство.
– Я полагал быть расстрелянным.
– По приговору суда вы подлежите четвертованию. Одна милость его императорского величества заменила…
Павел Иванович махнул рукой.
Тем временем из крепости стали выводить тех, кому надлежало только увидеть казнь. А самим подвергнуться позорному аутодафе с ломанием шпаг и сжиганием мундиров. Их было немногим более сотни. Удивленный ропот прошел над плацем, сжатым в каре первыми гренадерскими ротами гвардейских полков. Говорили, что в казематах побывало около полутысячи. Где же остальные? Менее всего верилось, что их отпустили.
Барабанная зыбь.
Чтение приговора с его бессмысленным разбиением виновных на разряды.
Непередаваемая серьезность палачей.
Они хотели, чтобы и осужденные играли в их игру. По-детски ужасались собственным преступлениям. Трепетали при мысли о возмездии. Умилялись снисхождению императора, заменившего казни каторгой, а каторгу солдатчиной…
Но измученные люди, паче чаяния, оказались равнодушны к августейшему милосердию. Их смешила мрачная торжественность. Не трогало унижение перед товарищами. Пройдя через высший позор следствия, какого еще сраму они не терпели? Самооговор? Предательство? Испражнение в присутствии часового?
Бедный князь Сергей Волконский имел наглость раскланиваться со знакомыми, которые шарахались от него как от зачумленного.
Заключенный в четвертое, сводное, каре Мишель Лунин, дослушав сентенцию суда, крикнул по-французски:
– Прекрасный приговор, господа! Надо бы спрыснуть!
И тут же, скинув штаны, исполнил сказанное.
Его выходка была встречена с веселым сочувствием. В том смысле, что мочились они на прощение императора. И хотя больше никто примеру не последовал, но черта между осужденными и их вчерашними сослуживцами обозначилась резко.