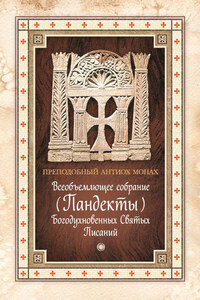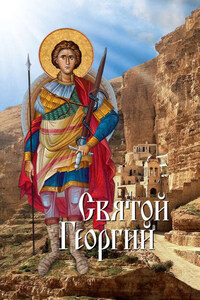Небо не просто лило – оно выло холодным, колючим дождём. Каждая капля, ударяясь о чёрный шёлк зонта в руке Леона, отдавалась ледяной иглой где-то глубоко внутри, в пустом пространстве, где раньше билось сердце. Зонт дрожал. Не от порывов промозглого ветра, который рвал полы его старого плаща, а от той всепоглощающей, тошнотворной пустоты, что разъедала его изнутри, выедая плоть и оставляя лишь полые, хрупкие кости, готовые рассыпаться в прах под тяжестью происходящего.
Внизу, в сырой яме цвета мокрого пепла, медленно, неумолимо опускался гроб. Полированный дуб, ленты, венки – ритуальный набор, который должен был означать прощание, уважение, скорбь. Но Леон не видел гроба. Его взгляд, затуманенный не дождём, а невыплаканными слезами и ужасом, проектировал. Он видел карту.
Венки, разбросанные по краю могилы и на мокрой земле, превратились в Архипелаг Скорби. Каждый цветок – скала отчаяния, каждый лист – утёс безысходности. Они уходили под воду грязи, острова тонущего мира.
Траурные ленты, повисшие мокрыми сосульками на венках и ручках гроба, стали реками. Но не полноводными артериями жизни, а тонкими, чёрными струйками, текущими в никуда. В бездонное ущелье вечного "после", где не было берегов, не было цели, только бесконечное падение.
И первая горсть земли, глухо шлёпнувшаяся на крышку гроба священником… Она не была просто комьями глины. Она растекалась, формируя очертания нового, чудовищного материка. Материка, которого не должно было существовать на его внутренней карте мира. Материка Смерти. Он вторгался в акваторию его жизни с Анной, перекраивая береговые линии, стирая знакомые очертания сокровенных бухт счастья, накрывая города их общих воспоминаний толщей холодной, мёртвой породы.
И тут, как лезвие бритвы, прорезая бредовую картографию горя, в сознание вонзилась мысль, острая и беспощадная: «Почему она?»
Она ударила с такой силой, что Леон едва не выронил зонт. Физически ощутимой болью, как удар ножа под ребра.
Безумие. Бессилие. Абсолютное, унизительное поражение его разума, его науки, его веры в то, что мир можно измерить, зафиксировать и понять.
Дождь стучал по зонту, превращая похоронную процессию в размытое серое пятно. Земля продолжала падать на крышку гроба, расширяя границы того ужасного, несуществующего материка. А Леон стоял, сжимая рукоять зонта до побеления костяшек, глядя в сырую яму, где навсегда застревали его попытки нарисовать карту того, что не поддаётся ни измерениям, ни пониманию. Только боли. Бесконечной, колючей, как этот дождь.
Чья-то рука – безликая, в чёрной перчатке – сунула ему в ладонь ком холодной глины. Она была не просто сырой. Она была липкой, мерзко присасывающейся к коже, как живая, и тяжёлой, словно отлитой из расплавленного свинца. Вес этой горсти тянул его руку вниз, к могиле, к Анне, в небытие. Он сжал пальцы, чувствуя, как мерзкая субстанция заполняет складки кожи, проникает под ногти – печать смерти.
И тогда сквозь монотонный стук дождя по зонтам, сквозь сдавленные всхлипывания, сквозь гул в собственных ушах он услышал шёпот. Нежный, едва уловимый, знакомый до боли. Он лился откуда-то сверху, с веток мокрых деревьев, или поднимался из самой могилы, или рождался в разломах его собственного сознания. Шёпот ветра? Дождя? Анны?
«Брось…» – пронеслось в воздухе, обволакивая ледяной нежностью. «Это не твоя вина.»
Слова, которые он отчаянно жаждал услышать и которые теперь жгли, как раскалённое железо. Неправда! Ложь! Его вина была тяжелее этой глины, чернее земли, глубже этой могилы. Шёпот пытался вырвать ком из его руки, снять груз, но он лишь сжал пальцы сильнее, до хруста в суставах. Вина была его единственной связью с Анной сейчас. Отпустить её – значило окончательно предать.