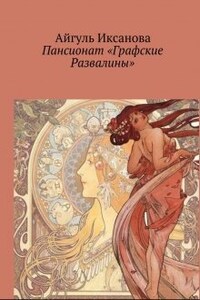Избитая, пыльная, переходящая из
камня и песка в скверную брусчатку дорога покрылась темными
пятнышками накрапывающего дождя. Лето шло на убыль.
Георгий шагал в направлении Минска.
На душе было серо и муторно, хотя разумных причин для тревоги он
пока не находил. Документы надежные: паспорт, командировочное
удостоверение. Если бы страх не имел столько оттенков, которые так
легко перепутать.
Впереди путь преграждал тяжелый
шлагбаум, за которым, переминались с ноги на ногу, неприветливо
встречая глазами путника, трое солдат. Еще один сидел за пулеметом,
черное дуло которого пустою глазницей таращилось из мешков с
песком. По полю в высокой траве протянута колючка, увешанная
пустыми жестянками. Три ряда мучительной смерти.
Георгий сбавил шаг и вынул руки из
карманов.
– Аусвайс… – хмуро потребовал немец в
мятой пилотке с землистым от пыли и загара лицом, вытянув
ладонь.
Его товарищи, стоя поодаль,
равнодушно мерили Георгия взглядом.
Георгий с притворной боязливой
расторопностью сунул руку во внутренний карман пиджака и вынул
бумаги.
Немец просмотрел их, вернул Георгию и
небрежным жестом разрешил ему пролезть под шлагбаум. На всякий
случай он как бы невзначай положил руку на ремень винтовки. Жест
этот был скорее механическим, но Георгий знал, что сослуживцы
уловили его движение, готовые сами в любой миг схватиться за
оружие. Затаенная ненависть, исходившая от людей, почти осязаемо
бродила в воздухе
Он шел один, изредка встречая или
обгоняя одиноких оборванных крестьян, словно из неоткуда в никуда
бредущих по дороге. Безликие, бесцветные, скованные двухлетним
страхом и тоской фигуры, ничем не отличающиеся друг от друга, кроме
пола. Пальцем тронешь – рассыплются в прах.
По обочинам торчали ржавеющие остовы
советских автомобилей и прицепов. Некоторые лежали на боку. Иные
были полностью сожжены или разворочены танковыми гусеницами.
Армейские грузовики, бензовозы, «эмки». Целые колонны техники,
которая никогда больше не заведется.
Придорожный лес вырублен – только
бревна и пни на десятки метров от обочин. За время пути он видел,
как бригады местных жителей под суровым надзором полицаев валили
деревья, отодвигая опасную стену леса подальше от дороги.
Вновь КПП. Очкастый фельдфебель,
будто заподозрив неладное, щурится, посасывая сигарету.
– Шаулен?
– А? – Георгий попытался изобразить
непонимающе-заискивающую улыбку.
– Аус Шаулен?
– Шаулен, Шаулен! – закивал Георгий и
залопотал на русском. – Маму проведать, вот…
В крайнем случае можно применить
гипноз. Но разве что-то пошло не так? Нет, это нервы. Должно быть,
лицо Георгия показалось немцу чересчур сытым.
И снова впереди рябая полоса шоссе,
уходящая в пустоту. Поваленный лес, жухлый бурьян, канавы.
Закопченная труба, торчащая из гор пепла и обломков кровли, бывших
когда-то МТС, одиноко темнеет вдали.
На подходе к городу Георгий увидел
изрешеченный пулеметным огнем гражданский автобус, который,
накренившись, мрачно покоился в кювете с наглухо закрытыми дверьми.
Осколки стекла в окнах напоминали мстительный оскал.
Георгий никогда прежде не был в
Минске, но почти не ошибся в ожиданиях. Город оказался серым и
убогим, как и большинство своих оккупированных в первые разгромные
месяцы собратьев. С другой стороны, это все же был город, а не
распаханный бомбами и артиллерией ландшафт.
Окраины, сплошь деревянные, встретили
путника мертвой чернотой в окнах хибар, редкими зубьями
полуразвалившихся заборов и покосившимися столбами, с которых
свисали оборванными струнами телеграфные провода. Как раскрытые рты
покойников зияли посреди улиц глубокие воронки.
Пройдя по Бобруйской улице, вся
деревянная часть которой была сожрана пожаром, Георгий, стараясь
избегать вездесущих патрулей, за полчаса вышел к центру Минска.