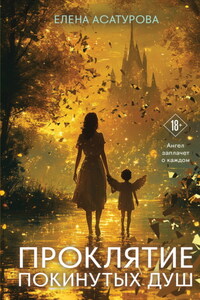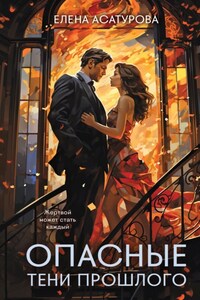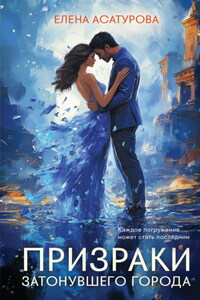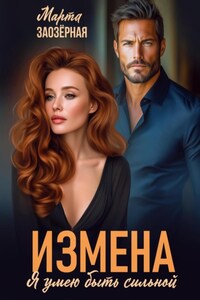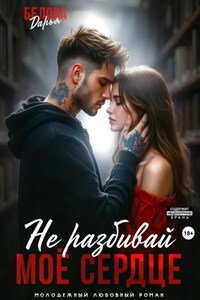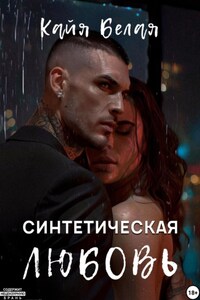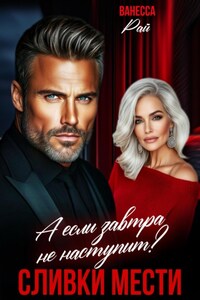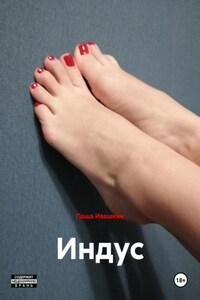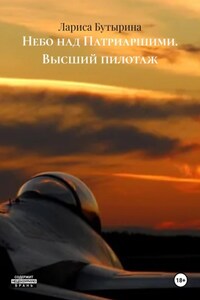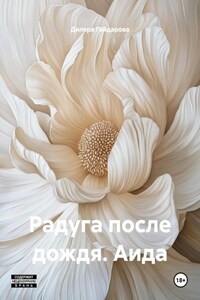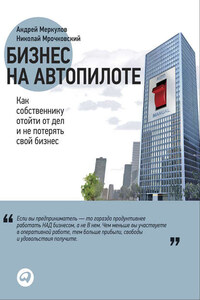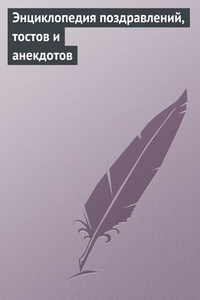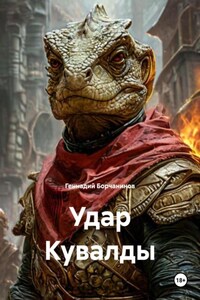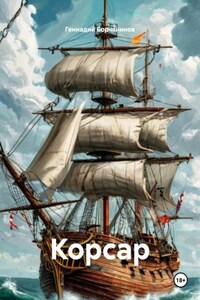Ладожск[1], усадьба Томилиных
Декабрь 1917 года
– Похоже, дедушка совсем выжил из ума, коли собрался всю коллекцию рода Томилиных отдать новым властям. – Николенька Штрауб, меривший шагами гостиную, тщетно взывал к матери, которая сидела в кресле, безвольно уронив руки.
Перед ним была бледная и какая-то бесцветная женщина средних лет, из которой раннее вдовство и суровый нрав отца, Евгения Григорьевича Томилина, казалось, высосали все жизненные соки. Она невольно любовалась сыном. Статная фигура, решительные движения и строгий, будто высеченный из мрамора, профиль так напоминали о его папе, Отто Штраубе.
Родство с военным из обедневшей немецкой семьи, которая осела в России еще при императоре Павле I, никогда не нравилось потомственному дворянину Томилину. И хотя провинциальная дворянская династия не слыла очень богатой, Евгению Григорьевичу было чем гордиться. Чего стоила коллекция картин, которую начал собирать еще дед, Александр Романович, участник войны 1812 года, предводитель уезда и владелец первого в округе кирпичного завода, известный меценат и благодетель. Его гостеприимная усадьба в первой половине ХIХ века была местом, где охотно и с достоинством принимали художников, музыкантов, литераторов. На живописном берегу реки Волхов они встречали радушный прием: на столах всегда были свежайшие продукты из собственного хозяйства Томилиных, включая домашние наливки и квас, мед и сахарные головы к чаю, а также соленья и варенья, заготовкой которых каждое лето руководила хозяйка, Варвара Парамоновна. Помимо видов на речные просторы и самой усадьбы, окруженной парком с березовыми и липовыми аллеями и плодоносящим садом, живописцев привлекали красочные праздники и ярмарки, которые устраивал Александр Романович. Гостившие у Томилиных художники запечатлели и господский дом с лестницей из известковых плит, ведущей к прудам с карпами, и портреты супружеской четы, и деревенский быт Ладожска.
Безошибочная интуиция и прекрасный вкус Александра Томилина позволяли ему разглядеть будущих мастеров даже в начинающих живописцах, которые оставляли ему свои полотна в благодарность за гостеприимство. Так начала собираться коллекция, которую дворянин пополнял на аукционах, скупая работы не только русских, но и западноевропейских художников. Один из его подопечных, итальянец, расписал стены этой полукруглой залы с камином, где устраивались елки для детворы и рождественские балы для помещиков и заезжей знати.
Когда собрание картин разрослось, Александр Романович построил для него дом-флигель из кирпича, соединив его с основным зданием крытой галереей. Выставка была открыта для публики, посмотреть на коллекцию Томилина приезжали искусствоведы из Москвы и Петербурга, о ней писали в газетах.
После его кончины наследники не только сберегли, но продолжили пополнять собрание картин. И нынешний глава семейства, Евгений Григорьевич, до революции принимал в усадьбе Томилиных известных живописцев.
Октябрьские события и последовавшая за ними смута пока обходили их дом стороной. Видимо, сказывался авторитет Томилиных даже среди рабочих и крестьян уезда. Но тем не менее кирпичный завод экспроприировали, так же как все угодья, конюшню, рыбные пруды. На днях из губернского революционного комитета Евгению Григорьевичу принесли постановление о размещении во флигеле детского приюта. Надо было спасать коллекцию от разграбления, и единственным выходом Томилин-старший видел передачу ее в Русский музей, с которым вел переписку. О своем решении он безапелляционно сообщил домочадцам: пожилой и начинающей впадать в маразм супруге, дочери Марии и внуку Николаю. Женщины отнеслись к этому равнодушно, а вот Николенька был возмущен и пытался противостоять властному деду, но безуспешно.