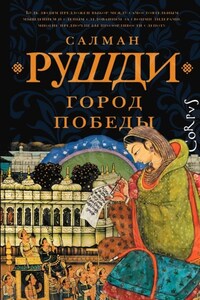Я потерял счет дням с той поры, как бежал от ужасов безумной горной крепости Васко Миранды в андалусском городке Бененхели, – бежал от смерти под покровом темноты, прибив к двери свое послание. Затем на моем голодном, подернутом знойной дымкой пути были и другие пучки исписанных страниц, взмахи молотка, острые вскрики вгоняемых в дерево двухдюймовых гвоздей. Давно, когда я был еще зелен, любимая сказала мне нежно: “Мавр ты мой, странный темный человек, всегда-то у тебя полно тезисов, как у Лютера, только вот нет церковной двери, чтобы их прибить”. (Женщина, считающая себя благочестивой индуисткой, поминает воззвание Лютера в Виттенберге, чтобы подразнить своего совершенно неблагочестивого возлюбленного, потомка индийских христиан, – какими только дорожками не ходят истории, из каких только уст не звучат!) К несчастью, разговор услышала моя мать и выстрелила, словно затаившаяся змея: “Не знаю, как насчет лютеровости, а вот лютости ему не занимать”. Да, мама, последнее слово на эту тему осталось за тобой (впрочем, на все другие – тоже).
“Амрика” и “Москва” – так их кто-то прозвал, мою мать Аурору и мою возлюбленную Уму, намекая на враждующие сверхдержавы; говорили, что две женщины похожи одна на другую, но я не видел этого, не в состоянии был увидеть. Обе умерли не своей смертью, а я оказался в чужой стране, где в спину мне дышит погибель, а в руках лежит их история, которую я распинаю на воротах, заборах, стволах олив, которой помечаю ландшафт вдоль моего последнего пути, – история, указывающая на меня. Мой побег превратил местность в подобие пиратской карты, изобилующей подсказками, подводящей вереницей косых крестиков к сокровищу, которое – я сам. Когда преследователи доберутся до меня по оставленным мной приметам, они найдут меня безропотно ожидающим, трудно дышащим, готовым. Здесь я стою. И не мог ничего сделать иначе.
(Скорее уж, здесь я сижу. В этом сумрачном лесу – то есть на этой масличной горе, в этой роще, под взорами накренившихся так и сяк каменных крестов маленького заросшего кладбища, чуть вниз по дороге от бензоколонки Ultimo Suspiro[1], – без Вергилия и без нужды в нем, на половине земного пути, по запутанным причинам ставшей его концом, я, как пес, подыхаю от изнеможения.)
Мало ли что, милые дамы, можно приколотить гвоздями. Скажем, флаг к мачте. Но после не столь уж длинной (хоть и расцвеченной многими флагами) жизни я остался вовсе без тезисов. Сама жизнь – чем не распятие?
Когда у тебя кончается пар, когда воздух, гнавший тебя вперед, почти на исходе, самое время исповедаться. Пусть это будет завещание, предсмертная (не слишком-то вольная) воля; балаган “Последнее издыханье”. Вот объяснение этого “здесь-я-стою-или-сижу” с пригвожденными к ландшафту самообличеньями и ключами от красной крепости в кармане, вот объяснение этой краткой паузы перед окончательной капитуляцией.
Подобает, следственно, пропеть песнь конца: о том, что существовало и не могло существовать далее; о том, что было хорошо и что худо. Испустить прощальный вздох по утраченному миру, уронить слезу ему вдогонку. Также, впрочем, и прокричать прощальное “ура”, протравить последнюю отравленную скандальную байку (за неимением видео придется довольствоваться словами), сыграть несколько неблагозвучных поминальных мелодий. Слушайте историю Мавра, полную шума и ярости. Желаете? Впрочем, пусть даже и не желаете. А для начала передайте-ка сюда перец.