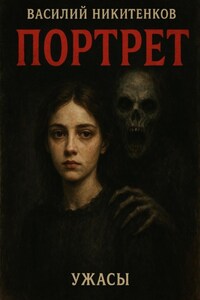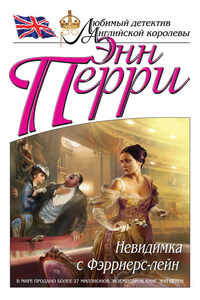В первый раз я увидел Ее на скалах у моего маяка через две недели после того страшного дня, когда я бросил Кибу одного и поехал к Ингрид в больницу.
Я наблюдал за лебедями и вдруг заметил Ее – в тонком белом платье, с длинными растрепанными волосами, на ледяном ветру. Я вздрогнул, когда понял, что смотрю на человека – мы с Кибой редко видим людей. В такие секунды с непривычки чувствуешь, как будто на тебе нет одежды. Интересно, что чувствовала она, когда глядела на убийцу?
Я докурил, затушил сигарету о камень, а Она все стояла там неподвижно в своем тонком платье. Она была далеко, но я знал, что Она смотрит на меня. Так смотрит лань на охотника. Она еще не понимает, кто перед ней, он еще не успел поднять ружье, а уже чувствует себя виноватым.
Она стояла, я ничего не знал о Ней, и мы просто смотрели друг на друга в сгущавшихся ветреных сумерках.
Помню, Киба позвал меня – нужно было готовиться к ненастному вечеру, затаскивать лодку на берег, чтобы ее не разбило о скалы. Проверять приборы. Потом подниматься зажигать лампу маяка. Наша обычная рутина, в которую ворвалась Она – в белом платье, на беспощадном ветру.
Я что-то крикнул Кибе в ответ. Я спугнул Ее. Когда я снова посмотрел на скалы, Ее уже не было.
Я хотел, чтобы Она исчезла.
Я хотел, чтобы Она подошла ближе.
Я знал, что Она вернется.
НЕЛА
Нела жила в небольшом доме на побережье холодного моря вдвоем с Дедом.
Дети дразнили ее сиротой. Дед говорил, что ее родители были путешественниками и пропали без вести. До школы Нела гордилась этим, потому что считала, что они были очень храбрыми. Ей тоже хотелось пропасть без вести в море на каком-нибудь большом фрегате. Она представляла Деда капитаном, а себя – ловким боцманом, мальчишкой, тянущим канаты и громко, заливисто свистящим в два пальца.
Но все было намного скучнее. Дед был художником.
Он часто пропадал в своей мастерской, едко и липко пах растворителями и олифой, а руки его были в черно-белых пятнах краски.
В теплое время, с весны до осени, Дед брал Нелу с собой на скалы писать картины. Ранним утром он собирал в дорогу кисти, заранее приготовленные холсты и тюбики с красками. Одни тюбики были большими и длинными, похожими на моряков на вахте, в белых накрахмаленных бескозырках. Другие, совсем маленькие, скрученные, походили на виноградных улиток. Все их Дед складывал в запачканный этюдник с тонкими черными ножками, закидывал его на плечо, и они вдвоем с Нелой шли к морю. Там Дед находил подходящее место для того, чтобы писать свою очередную черно-белую картину. Черно-белыми его картины были потому, что он писал всегда то, что видел вокруг, – стальное море, огромное северное небо, горы белых облаков и бесцветные скалы.
Дед водил из стороны в сторону широкой кистью, то и дело вытирал руки пропахшей красками тряпкой, пожевывал кончик колоска.
Он был задумчив, молчалив и учил Нелу наблюдать. Рисовать она совсем не хотела, да у нее и не получалось.
То и дело Дед подводил Нелу за плечи к холсту с едва начатой картиной, давал в руку кисть в серой краске и просил что-то нарисовать – горизонт, тень на скале, линию песка. Она боялась. Тогда он сильно сжимал жесткой рукой ее маленький детский кулачок и уверенно вел им, управляя кистью и ворча:
– Расслабь руку. Расслабь, говорю, руку…
Потом он разжимал сухую ладонь, и Нела чувствовала, как будто летит с огромной высоты. Кисть падала в траву. Дед чертыхался, вздыхал, отряхивал ее от налипших семян и песка и молча продолжал работу.
Заглядывая в этюдник, Нела видела те же холмы, скалы, облака и деревья – все, что было вокруг. Но в самом конце происходило маленькое чудо. Когда Дед заканчивал работу, то вдруг придумывал и дорисовывал что-то цветное и необыкновенное. На холсте появлялись синие качели на высокой ветке сосны, или крохотный домик на пустынном берегу с горящим желтым окошком, или красноносый черный лебедь среди бесцветных чаек.