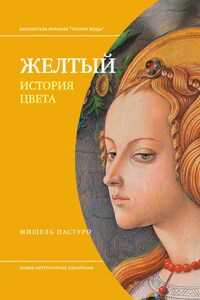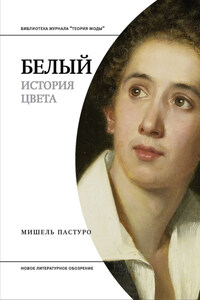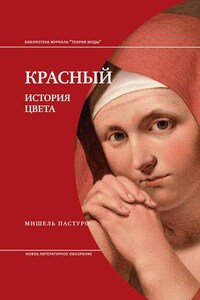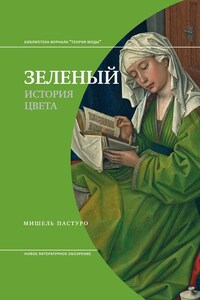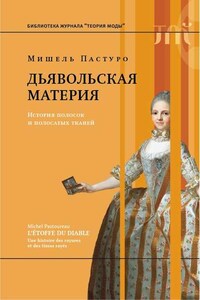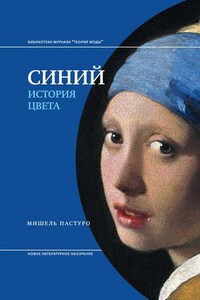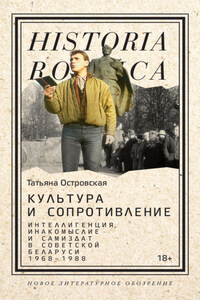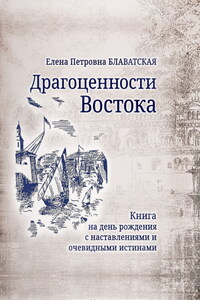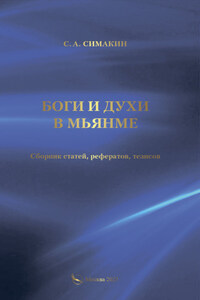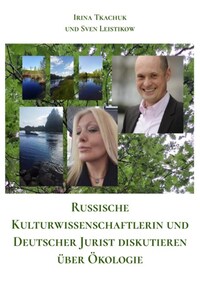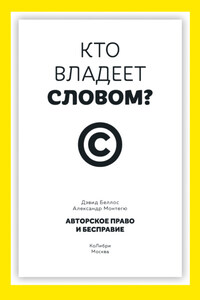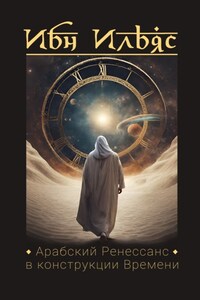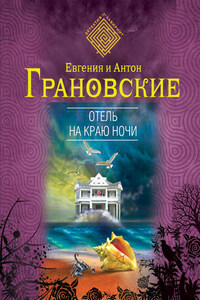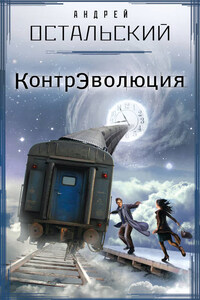Предисловие. Почему появилась и как написана эта книга
Является ли розовый цветом в полном смысле слова? Позволительно усомниться в этом, или, во всяком случае, поставить это под вопрос. Современная наука отказывает ему в полноценном хроматическом статусе: она не рассматривает розовый ни как цвет-вещество, ни как цвет – разновидность света, а лишь как один из оттенков красного, который отсутствует в солнечном спектре. Когда в 1666 году Исаак Ньютон смог разложить белый солнечный свет на разноцветные лучи, он не обнаружил среди них розового, хотя наряду с красным, желтым, зеленым и синим там наличествовали фиолетовый и оранжевый. С тех пор физика и все смежные с ней науки неизменно отказывались признавать в розовом подлинный цвет – не только как самостоятельный, но даже как полноправную «полуцветовую» категорию; лишь как оттенок.
Для историка дело обстоит сложнее. С одной стороны, не подлежит сомнению, что розовую краску, как для живописи, так и в красильном деле, люди научились изготавливать сравнительно поздно; с другой стороны, человеческий глаз сравнительно рано стал различать этот цвет в природе, и возникла необходимость подобрать ему название и попытаться определить его место среди прочих цветов. Так как же определить этот цвет, который часто можно увидеть у растений и минералов, на шерсти и оперении животных и птиц и даже на небе, в момент, когда солнце встает и когда оно садится? Долгое время лексика была неспособна это сделать: ни в древнегреческом, ни в латинском языке не было общеупотребительного слова для обозначения розового.
Проблема не была решена и позднее, в местных европейских языках Средневековья и раннего Нового времени: базовый термин появился только в XVIII веке, когда цвет получил свое название от цветка: во французском, немецком и итальянском это была роза, в английском – гвоздика. Но какое место должен занимать этот цвет в ordo colorum, цветовом порядке ученых, или на любой хроматической шкале?
Долгие столетия для него не находилось места, потому что у него не было имени, а классификация – это прежде всего вопрос лексики. В самом деле, розового нет ни в одном перечне цветов, какие оставили нам Античность и Средние века; отсутствует он также в поэмах и хрониках, в трактатах или энциклопедиях, повсюду, где речь идет о цветах.
Однако с середины XV века положение меняется: в эту эпоху в хроматических каталогах для определения красок начинают применяться не только их словесные описания, но и наглядные образцы; и розовый наконец обретает свое место, не очень заметное, разумеется, но все же неоспоримое. Помимо прочего, нам приходится отметить один факт, который нас удивляет: оказывается, до того, как розовый был встроен в гамму красных тонов, он считался одним из оттенков желтого – бледно-желтым, в большей или меньшей степени близким к оранжевому, поскольку ни красильщики, ни живописцы тогда еще не умели передавать яркие, насыщенные розовые тона. Они добьются этого только в XVIII веке, и с этого времени за розовым закрепится новое определение: цвет, получаемый путем смешения красного и белого. И соответственно, отныне он обладает статусом «смешанного» цвета, наряду с фиолетовым, серым, коричневым и оранжевым.
Как мы видим, история розового полна неясностей, крутых поворотов, и пересказать ее нелегко – потому что этот цвет долгое время казался неуловимым, нестойким, эфемерным, не поддающимся ни анализу, ни синтезу. Наверное, именно поэтому так мало исследований, посвященных этому цвету, по крайней мере в историческом плане. Большинство известных нам работ охватывают только несколько последних десятилетий. И зачастую они разочаровывают, так как проблемы цвета рассматриваются в них преимущественно в гендерном аспекте: розовый – женский цвет, синий – мужской. Не следует забывать, что такое разграничение по половому признаку характерно лишь для сравнительно краткого периода, к тому же оно представляет только одну грань богатой символики розового. Начиная с XVIII века этот цвет наконец завоевывает себе место в повседневной жизни и обзаводится собственной символикой, независимой от символики красного, желтого и белого. Он заслуживает, чтобы на него обратили внимание. Тем более что в дальнейшем у розового обнаруживаются различные нюансы, которые постепенно становятся еще многочисленнее, проявляясь даже в соседстве с другими оттенками, а его название обрастает различными переносными смыслами и порождает различные образные выражения и устойчивые словосочетания, порой положительные («видеть жизнь в розовом свете»), порой отрицательные («розовая водица»). И если наука не признает розовый цветом, в материальной культуре, вестиментарных традициях и социальных кодах, которые их сопровождают, это, безусловно, цвет, самостоятельный и выразительный.