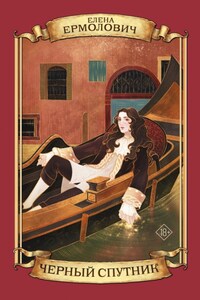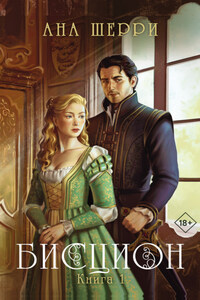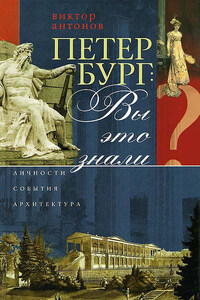– Настепнего ранка пшибылы два трупе, – пел возничий на облучке с таким нарочитым трагическим завыванием, что его пассажиры, не знавшие по-польски, переглянулись и вопросили:
– О чем может быть эта песня?
– Наутро приплыли два трупа, – перевел с удовольствием нотариус-поляк, а товарищ его прибавил перевод уже следующей фразы:
– И весла с того челнока.
Два пассажира, лекарь-фламандец и жид-ювелир, пригорюнились. И было отчего – холодно было в карете, печку пожадничали, понадеялись, видать, на весну раннюю и дружную. И соседи по карете, те самые два нотариуса-поляка, попались сволочи. Нотариусы день свой начинали с чеснока, как будто ждали нападения упырей, и продолжали – зловонным дешевым табаком, и так до самой ночи, до постоялого двора.
Наконец-то возле Ченстохова поляки сошли, и ямщик крикнул трубно и весело:
– Принимай павлинов!
И не обманул – в карету забрались два монаха-паулина, в коричневых католических рясах. Один прижимал к груди квадратный маленький сверток, а другой – наоборот, сверток веретенообразный.
– Что ж в багаж не привязали? – огорчился Фима Любшиц, ювелир жидовский, пожилой юноша, мелкий, вострый, с томно припухшими розовыми веками. Был Фима тонок и изящен, но все равно опасался, что со свертками – места ему в карете совсем не останется.
– Нельзя! – строго отвечал монах и прибавил, смеясь: – То реликвии святые.
Под своим капюшоном был он весел, румян, словно блином умыт, и белые отросшие волосы нежно осеняли его голову и щеки – как пух на утенке, видать, с дорожными заботами монах позабыл побриться. Глаза католик имел самые плутовские и говорил высокой темпераментной скороговоркой, словно был не монах, а, например, барышник. Спутник его, тот самый, что с длинным свертком, лысый, огромный, занял собою полкареты и теперь сидел молча, потупив очи, и притворялся спящим. Обросший же католик-весельчак пристроил свой маленький сверток на коленях и спросил, горохом рассыпая быстрые немецкие слова:
– А что, ребята, кто ведает – открылась ли Москва?
– А разве была она закрыта? – удивился четвертый пассажир, Яков Ван Геделе. Яков этот, по профессии лекарь, был молод и хорош собою, темной масти, но с глазами очень светлыми, такие глаза романисты именуют бриллиантовыми. Неправильность черт его искупалась их живостью и почти девической миловидностью.
– Тю, как же ты едешь и не знаешь! – расхохотался монах. – Почитай, весь февраль Москва закрыта была, кордоны стояли, не пущали никого – ни на въезд, ни на выезд. По политике ловили кого-то. А сейчас – отверзли врата, гуляй голытьба, – монах поднял руки, потянулся, и под рясой его что-то весело звякнуло.
Стояла весна одна тысяча семьсот тридцатого года – в России только-только выбрали новую государыню, и потому, наверное, перекрывали и дорогу в столицу – власть делили, берегли сладкий каравай от лишних ртов.
Ямщик затянул опять свою трагическую протяжную песню, и некому больше стало перевести – о каких еще новых злосчастьях ведется в ней речь.
Фимка спросил с ласковой осторожностью: