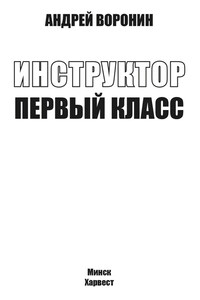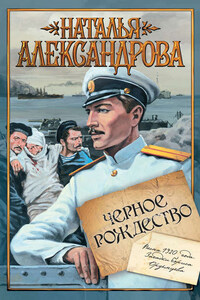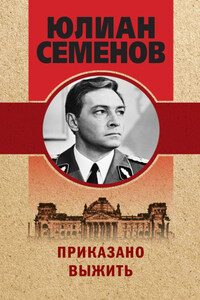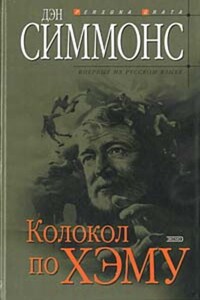Лето 1812 года было хорошим временем для воронов. Крупные черные птицы в то жаркое страшное лето позабыли, что такое голод: вдоль дорог, в вытоптанных полях и на улицах сгоревших, разоренных деревень для них было вдоволь пропитания. Клювастые падальщики собирались на страшный пир огромными стаями и почти никогда не ссорились из-за добычи, потому что ее хватало на всех.
В лесах плодились и жирели волки; одичавшие бесхозные псы сбивались в стаи и на воле нагуливали жир, пожирая трупы людей и лошадей, которыми было усеяно огромное пространство от Немана до Москвы-реки. Да что там псы! Многие люди в то страшное лето ушли в леса и жили там привольно и дико – рядом с волками, среди волков и совершенно по-волчьи. Разница заключалась лишь в том, что ходили они на двух ногах и были много страшнее и опаснее волков, потому что не боялись ни огня, ни железа, ни бога, ни черта, и не имели ничего, о чем могли бы пожалеть в свой смертный час.
Природа между тем жила своим порядком, не обращая внимания на затеянное людьми чудовищное и непристойное действо. Лето уже начало понемногу, с каждым днем все заметнее, перетекать в осень; в кронах деревьев, как ранняя седина в кудрявых волосах лихого рубаки, замелькали желтые и красные пятна, в садах под тяжестью забытых плодов гнулись до самой земли ветки, а под утро, когда поднятая марширующими войсками пыль окончательно оседала, воздух был по-осеннему прозрачен, свеж и пах близкими уже заморозками – разумеется, лишь там, где не было множества брошенных под открытым небом мертвых тел. В таких местах смрад разложения напрочь забивал все остальные запахи: это был единственный способ, при помощи которого мертвые могли напомнить живым о себе и о той участи, которая поджидала их впереди, перед тем как окончательно слиться с землей.
...Солнце уже начало заметно склоняться к западу, и его косые лучи окрасили все вокруг в благородные красноватые тона. Золотая предвечерняя дымка висела над разбитой копытами множества лошадей и окованными железом колесами тысяч тяжелых повозок, истолченной в мельчайшую пыль проселочной дорогой. По обочинам этой дороги, среди вытоптанных, потравленных кавалерийскими лошадьми хлебов виднелись оставленные проходившей здесь армией нелепые и безобразные монументы: перевернутые кверху колесами фуры, разбитые орудийные лафеты, разнесенные в щепы зеленые зарядные ящики и окоченевшие лошадиные трупы, на которых лениво копошилось сытое воронье. Большая старая птица, чей длинный острый клюв отливал вороненой сталью, насытившись, тяжело взлетела и уселась на обод косо торчавшего кверху колеса перевернутой пустой фуры. Ворон немного повозился, устраиваясь на этом насесте, и застыл в неподвижности, напоминая уродливое и зловещее изваяние наподобие каменных химер, что украшают собой собор Парижской Богоматери. Испачканный темной кровью стальной клюв был повернут в сторону дороги, немигающие черные бусины глаз смотрели прямо перед собой с равнодушием высшего существа, из века в век наблюдающего за бессмысленным кипением людских страстей. Когда вдалеке послышался тяжелый топот копыт, ворон даже не повернул головы.
Вскоре из-за поворота дороги показалась группа запыленных всадников в синих мундирах с красными отворотами, на высоких вороных лошадях. И кони, и всадники выглядели одинаково отощавшими и измотанными. На осунувшихся усатых лицах кавалеристов застыло выражение суровой сосредоточенности, глаза смотрели из-под надвинутых киверов сердито и настороженно. Всадников было чуть более десятка, а вернее, ровным счетом одиннадцать. Десяток изукрашенных витыми шнурами гусар, выстроившись в колонну по два, конвоировал одиннадцатого всадника, скакавшего в середине строя. Это был высокий широкоплечий брюнет с пышными усами, не лишенный той хищной, истинно мужской красоты, которая кажется столь привлекательной для женщин определенного сорта. Впрочем, сейчас его красота, была почти незаметна из-за пота, пыли и крови, которые, смешавшись, причудливыми разводами покрывали все его лицо от высокого лба до твердого, отчаянно нуждавшегося в бритье подбородка. Красивые серые глаза, погубившие множество женщин, смотрели сквозь прорези этой запекшейся маски с усталым равнодушием полной обреченности. Черноусый красавец не был отчаянным храбрецом, но даже в жизни самого последнего труса порой наступает момент, когда он чувствует, что устал бояться. Теперь этот момент настал для пана Кшиштофа Огинского – последнего отпрыска захиревшей боковой ветви славного и сказочно богатого шляхетского рода, карточного шулера, авантюриста и личного порученца маршала Мюрата.