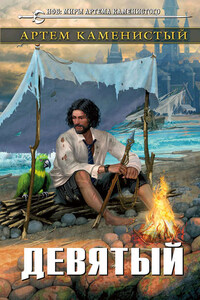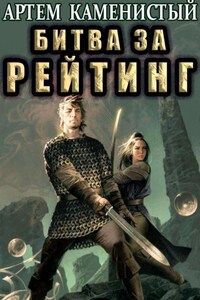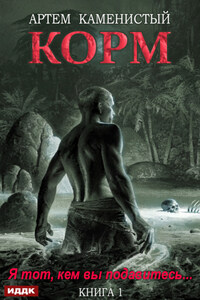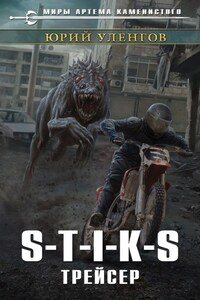– Не, ну ты только посмотри на него. На что это похоже?
– В смысле, мордой? Копия твоей бывшей.
– Слышь, клоун, ты задрал уже. Я серьезно.
– Если серьезно, он похож на жареную котлету.
– Во-во. И он реально не подох. Да он, получается, не просто урод, он, блин, урод бессмертный.
Звуки. Нехорошие звуки. Звуки, от которых хочется съежиться в комок, или даже больше – в крохотную точку, а лучше вообще перестать существовать. Звуки связаны с чем-то невообразимо скверным, но с чем именно – непонятно. Не получается вспомнить.
И даже не хочется вспоминать.
– Давай еще разок его шваркнем? Четко он дымится.
– Да уймись ты уже, хватит с него, давай просто посмотрим, как и что с ним дальше будет. Нормально получилось, башка дымится, а сам живой. По ходу, ослеп, глаза вообще никакие, закатившиеся.
Это не просто звуки, это голос. Два голоса. И он понимает каждое слово, но при этом не видит в них ни малейшего смысла.
Голоса? И кто же это говорит? Надо посмотреть.
– Не, ну ты погляди на его глаза. Да это ж охренеть!
– И чего я там не видел?
– Да ты глянь, зрачки меняются. Ну ты понял? У нашей котлеты зрачковый рефлекс заработал. Похоже, нервы припекло, конвульсивное сокращение пошло. Полный овощ, у него, считай, только легкие и сердце сами пашут, без стимуляции. Но овощ нереально живучий, восемь лет его режут и пилят, на хлопьях и метаноле держат, а он все не подыхает.
– И че, реально восемь лет, вот так, кучей дерьма провалялся?
– Я тебе что, врал когда-нибудь? Сам посмотри в журнале, если буквы еще не забыл.
– Да он и правда бессмертный какой-то. Вот же урод, и глаза у него уродские. Не, давай еще раз шваркнем, он как-то хреново на меня косится.
Голый бетон стен и потолка, местами на нем проступают ржавые разводы. Сыро и сумрачно. Краем зрения задевая пару переговаривающихся фигур, он не может разглядеть подробности. На глаза будто пелена опустилась, она прозрачная лишь частично, почему-то позволяет прекрасно видеть, что располагается впереди, а вот по бокам все размывается.
Надо попробовать повернуть голову. Что-то подсказывает – из этой затеи ничего не выйдет, он даже было ухватился за ниточку, которая могла привести к воспоминанию о прошлом, но тут же ее упустил.
Ему надо вспомнить хоть что-нибудь. Кто он такой? Что это за место? Почему он почти ничего не видит? По какой причине голова раскалывается от нестерпимой боли, волнами накатывающей от пылающего жарким пламенем затылка?
Он не помнил абсолютно ничего, но при этом понимал каждое слово, высказанное людьми, которых тщетно силился разглядеть.
Людьми? А кто такие люди?
Почему голова отказывается поворачиваться? Такое впечатление, будто ее в тиски зажало.
И что такое тиски?
Слишком много разных вопросов. Безответных.
– Да убери ты эту хрень, сказал же – хватит с него.
– Ну разок-то можно? Ты чего как неродной, жалко стало, что ли?
– Сказано тебе – убрал! Живо убрал! Угомонись, пока опять под залет не попали. Да задрал ты меня уже – косяки твои, а вешают на нас. Ты что, всю жизнь собрался в этой заднице проторчать?
– Ты реальную задницу не видел еще, как по мне, здесь почти норма.
– Ну и сиди здесь, если так нравится, но на меня не рассчитывай, я отсюда быстро свалю.
– Что вы здесь делаете? – голос новый, строгий, громкий, уверенный.
– Да ничего, просто Трэша проверяли, – ответили торопливо, лебезя. – Дежурный обход, вот, смотрим, надо все проверить.
– Трэша?
– Ну, в смысле, особь двадцать четыре сто шесть, проект «Веган».
– С каких это пор он стал Трэшем?
– Да мы его так между собой называем, по-простому. Раньше Випом был, он ведь вроде как особо важная персона, сами знаете, откуда к нам попал. Все серьезно. Ну а потом стал Веганом. Ему ведь мясо вообще не давали, даже когда судороги начались и пена из пасти пошла. Но как подрос, Трэш прилипло, он ведь реально трэшевый