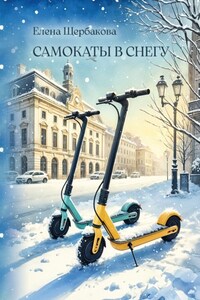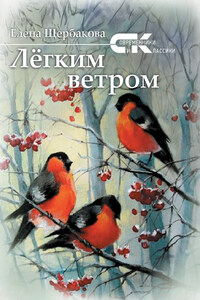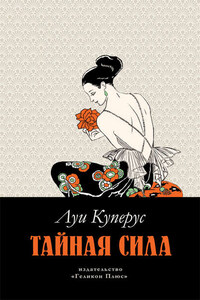Поздно ночью Маска подошёл к окну и печально посмотрел на ночной город. Лампочки и фонари давно не горели на улице ни ранним утром, ни вечером. Освещалось только футбольное поле одним прожектором, оставлявшим в центре яркий круг.
– Я, наверно, и сейчас, как марионетка, встал и печально посмотрел в окно, в котором ещё с детства провожал закаты. Значит, и моё «последнее место», к которому я так привык с раннего возраста, уже не огорчает никого. Седой, мой одноклассник, сказал бы, что какая-то плодожорка интеллекта давно натёрла в мозгах мозоли. А Машинист сказал бы: зачем работать мозгами, ведь он давно на детском грузовике по своей квартире ездит… Это всё из-за детей, которых ни у меня, ни у Седого, ни у Машиниста нет, но их давно кормим.
Маска опустился на стульчик и тяжело вздохнул, ему представилась тучная тётя, которая снова придёт к нему на кухню и будет там на него кричать. Прежде, в детстве, возле дома была площадка с вешалками для белья, и там он вместе с Седым и Машинистом разбивал коленки, играя в волейбол. А потом расковыривал коросты, а медсестра ругалась: «Не дети, Освенцим! Их лечить невозможно!»
Маска лёг спать. Только рано утром в дверь резко позвонили. Маска поморщился, сощурил глаза:
– Кто, чёрт?
– Я, Машинист.
– Да что ты?
– Не слышишь?
Машинист показал на улицу, где гремел белый мусорный самосвал. Маска заткнул нос.
– Как несёт! Не могу я.
– Это я не могу печатать календари и зарабатывать на детском питании, выдавать зарплату из своего кармана. Угробил три машины, всмятку. Передай Седому, не мне на Луне стихи читать, я опять втяпаюсь.
– Понимаю, – покачал головой Маска. – Бомж, и тот чувствует себя достойнее. Не хватало заразу подхватить.
– Сделай что-нибудь, Маска. А то улыбаешься как китаец, когда плакать хочется. Я сказал бы…
– Вот видишь, – Маска протянул микрофон. – Вот с чем я работаю, настоящий нацизм, а ты о детском питании.
– Чего тут спорить? Китайцы в космос капсулу с вирусом запустили. Конец света!!! И что скажет Седой: смотри на дрессированного попугайчика или на собаку за рулём, в глазок всё видно?
– Он уже сказал, мир сошёл с ума и теперь болеет. Вот что сказал Седой. А не тётя-каракатица, что пролила подливку в столовой, и там поругались.
Белый мусорный самосвал во дворе закрыл кузов, и Машинист спустился вниз. Маска повернулся, как марионетка, достал капсулу и ввёл себе иглу в вену.
– Нужно оставаться на своём месте – вот что такое химия. А не мир, что исчезает, как шагреневая кожа. Когда пройдёт неразбериха с вирусом, он будет выглядеть совсем другим.
– Однако, ты, Маска, всё равно такой как есть, – незаметно из соседней комнаты вышел Седой.
– Смотри, у тебя перхоть, – засмеялся Маска, – возьми машинку, сбрей затылок, он седой.
– Ты шутишь. Знаешь, что я такой с детства. И это не парик.
– Это всё, на что способен твой мозг? Не больше, чем у Машиниста.
– Осторожно. Ведь вирус и там уже спит, ты не буди. И будем с миром.
– С миром?! – воскликнул Маска. – А это ты видел?
Маска достал пистолет-термометр, щёлкнул им в лоб Седому:
– Вот твоя температура!
Потом Маска разрезал полиэтиленовую бутылку и стал дышать в неё как в респиратор:
– Вот остужающее.
– Ты психуешь, Маска.
– Ах так! Я ем горошек. У-у-у-у. И теперь соблюдай дистанцию. Сейчас Машинист свой самосвал хотел в моём коридоре поставить.
– Маска, что за психоз? Это детская сцена. Замолчи, замолчи. Дыши в подушку.
– Не могу я так просто сидеть, лежать. Я заболею. Через час у меня поднимется температура. Вирус проникает во всё. М-м-м, целую тебя, напишу тебе оду, поставлю тебе памятник. Это не новация. А поиск ушедшего потерянного времени, забытой секунды, там, где оступились я и ты, и уже нет той дороги.