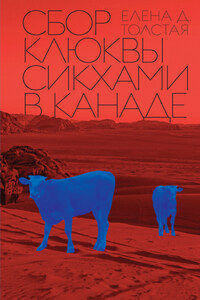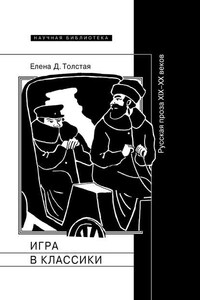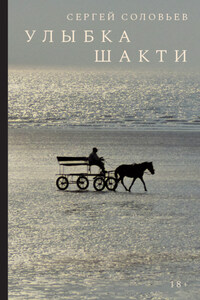Сикх транзит. Он бросает душную Индию, где ему места нет, его гонят, и на студеных просторах Канады возделывает развесистые клюквенные плантации. Десятки алых, малиновых (фу! Но правда, цвет такой) миль во все стороны, куда ни глянь. Он ее сеет, он и пожинает специальными комбайнами – каждое плечо десятифутового размаха – а потом моет в просторных Великих озерах, и легкая клюква всплывает широкими коралловыми островами неземной красоты.
А сикх – в чалме как Тадж Махал, в бороде как у Хоттабыча, в белой пижаме-джавахарлалке, надеваемой под фосфорическую пластиковую непотопляемую жилетку – окружает веревкой береговую линию острова, скругляет ее, замыкает, тесня ее, чтоб клюква не отбилась от стада. И всасывает ее огромными насосами в холодные, мрачные трюмы, воду сбрасывая обратно в озеро.
На выручку сикх, возможно, покупает себе ностальгический финик. А может быть, наоборот, думает о расширении, задумывается, наводит справки о морошке, находит в интернете лопарей, разузнает ноу-хау, тайно готовит опытную делянку на дальнем болотце, и, наконец, сикхиха, то есть сикхиня – короче, сикха варит желтенькое варенье из морошки, прославленное в русской литературе.
Есть тут что-то, что говорит нам о текущем моменте, что-то вроде дорожной карты нового мира, который образовался кругом, покуда мы зевали.
Отыщи всему начало – и ты многое поймешь
Анекдоты, застольные истории, писательские пластинки, театральные байки, семейные легенды – все эти малые жанры устной литературы замечательно сохранялись в холодном климате. Запретность их только полировала, устраняя случайное и лишнее, как и полагается в бесписьменных жанрах. Один приятель спросил себя лет пятьдесят тому назад – что это у нас собирают все фольклор крестьянский да городской? Надо воссоздать недостающее звено, дворянский фольклор! У него получилось: «Не спи валетом с отставным корнетом». Типа Козьма Прутков.
Но на самом-то деле – бегство, изгнание, трогательные сцены величия в нищете, неправдоподобные, отчаянно сентиментальные, но тем не менее правдивые отчеты о самопожертвовании и верности, из которых составилась после Великой революции французская история и которыми кормилась европейская литература чуть ли не до конца XIX века, – что же это, как не фольклор?
Наше новое изгнание порождало сходные сюжеты. В советской России их записывали так, в эмигрантской – эдак. Взять, например, анархистку Ксению Ге. В эмиграции верили, что добровольцы повесили ее как садистку и изуверку, а в советской книге «Женщина в гражданской войне» (1925) она выведена мученицей. Некая девица, прототип «гадюки» А.Н. Толстого, и правда ушла на гражданскую войну, сражаться вместе с женихом – но только на стороне белых. Версии и посейчас не сведены вместе, а это значит, что до настоящей истории мы еще не дозрели.
Но соберем, что осталось. Запишем кое-как по памяти, хоть память, надо честно сказать, так себе. Но ведь не запишешь так и ухнет с концами. Наконец, из подручных материалов соорудим некое подобие мира, которого больше нет. Может быть, клея и строгая, мы что-то вдруг в нем увидим, чего раньше не замечали, что-то сообразим, в чем-то разберемся?
Кроватка с сеткой
…Ми-ми, Мимишка и просто Мишка. Как-то из этого получилась Мика.
Мика в кроватке. Тут очень опасно. Сетка не защищает: она же дырявая! Не тугая, мягкая, а кругом-то темно. Глаза закрыты, но что-то под веками зыблется, вертится – какая-то пирамида или спираль. Боже! Ведь она из черных ржавых гвоздей, они живые, копошатся, колют, язвят, это ужасно – и вдруг в середке ее беззвучным щелчком загорается страшно яркий свет в виде большого электрического О! Это О растет и поглощает все вокруг себя и жужжит все громче. Мика просыпается оттого, что кричит. Появляется большое прекрасное мамино лицо. Мика говорит: «Автомобильное солнце!» Ну что тут можно объяснить?