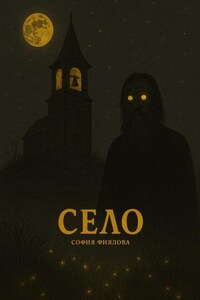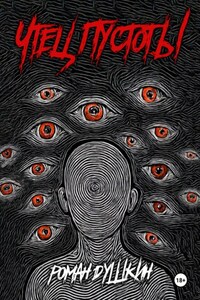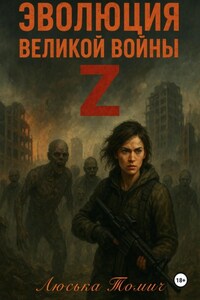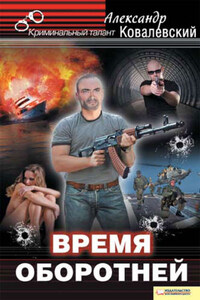Было тихо. Настолько, что можно было уловить, как с самой границы села ещё тянулся в воздухе глухой гул замершего колокола – даже не отзвук меди, а отголосок израненной памяти.
Много лет назад он звонил каждый день – ясно и заливисто – приглашая на службу и призывая радоваться, когда приходила пора очередного праздника. Тогда он впускал в людские сердца надежду и солнечный свет. А теперь – почти всегда молчал, и если решался подать голос, то в нём не было ни капли прежней весёлости. Только предупреждение.
Пожилая женщина сидела у окна, низко склонив голову, и подслеповато вглядывалась в густую темноту: фонари не горели, ни одно соседское окно не роняло на землю узкой полоски света. Казалось, кто-то поставил на село перевёрнутый чугунный горшок и придавил его, запечатав внутри ночь, дома и её саму.
Где-то там, за пределами этой скорлупы, сейчас гуляли люди, упрямо тянули вечерние игры дети, смиренно переговаривались телевизоры и радио, мерцали огни городов, посёлков, деревень и других сёл. Свободных. Живых.
А здесь – чёрная пустота, сжатая и плотная, как ткань, которой укрывают покойников. И только иногда за внешней стеной рождался тихий, густой, как мокрый кашель, выдох, а за ним – мягкий, крадущийся шаг, от которого в животе холодком отзывалось понимание: они рядом.
Приношение он в этот день не взял, и теперь в самом тёмном углу дома стояли миска с зачерствевшим хлебом и крынка с молоком, которое наверняка уже начало киснуть. Когда-то она бы сделала из него творог – не потому, что хотела, а потому, что жизнь требовала. Но теперь… Теперь это был знак. Приношение не принято. А значит, ждать больше нечего. Терпеть – тем более.
Она поднялась медленно, будто оживляя в себе весь пройденный путь. Накинула серый, обвисший платок, запахнула вытертую телогрейку, хотя знала – там, куда идёт, не холодно. Она давно уже не чувствовала ни холода, ни тепла, ни радости. Они высосали всё, оставив только самое ценное для них. То, чего у неё уже недоставало сил им предоставлять.
Входная дверь хлопнула – лениво, почти вежливо, – и ночь приняла её в свои пахнущие осенью объятья.
Она слышала их. Они шли за ней, но не рядом: по обочинам, за углами домов, в тенях. Не торопили, не подталкивали. А если бы подошли вплотную – что тогда? Она даже не пыталась додумывать. Что могла – уже давно предположила, проанализировала, отвергла и приняла, а сейчас мысли казались лишними: оставалось только шагать.
Когда она сворачивала из двора направо, краем глаза увидела, как блеснула в мерцании луны гладь пруда – мирная, если не вглядываться. А вглядываться больше не хотелось – зачем? Чего она там за столько лет ещё не разглядела?
Колокол вновь ударил: сначала один раз, а потом ещё и ещё – быстрее, гулче, надрывнее. Так, что казалось – не он это звонит, а сама земля, уставшая видеть то, что творилось на ней все эти долгие годы. Не так он звучал раньше. Даже в минуту скорби.
Она чувствовала, как с возвышающейся на холме за её спиной колокольни на неё уставились два перепуганных до смерти глаза, не понимающих и одновременно прекрасно понимающих, что она собралась сделать. Помимо невидимого в ночи звонаря, в неё наверняка упирались взгляды ещё двоих людей, выглянувших из-за штор, из-за мутных стёкол окон. Но не скрипнула доска, не отворилась дверь, не разрезал полночную тишину голос. Тоже смирились. Ну и пусть. И чёрт с ними.
Дома медленно проплывали мимо тёмными осколками прежней жизни, но рассматривать их у неё не было мочи. Она знала, что увидит, если решит оглядеться или обернуться. Они будут вокруг неё – наблюдать, но не трогать. Им и самим, сволочам, интересно. Так ведь ещё никто не делал. Никогда.