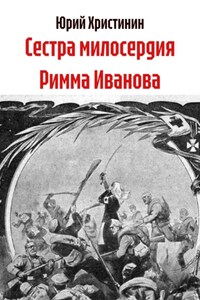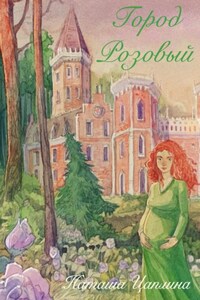Для славы мертвых нет.
Анна Ахматова
Вместо пролога
Над тихим и дремотным городком Могилевом висит сентябрь. "Официальная" осень уже началась, но зелень на деревьях по-летнему свежа, и только на пыльных кустарниках, широкой живой изгородью обступивших невысокий, тщательно выбеленный двухэтажный дом, словно редкая проседь в прическе молодого человека, кое-где разбросаны желтеющие листья – предвестники приближающихся холодов.
Вокруг – ленивая патриархальная тишина, нарушаемая иногда дребезжанием пробегающих по древней гулкой узкоколейке красно-желтых старых трамваев да приглушенным фырканьем подкатывающих к особняку автомобилей, из которых торопливо выходят военные в выцветших полевых мундирах, но зато с начищенными до блеска сапогами.
Судя по всему, двухэтажный дом – важное в городе заведение: вокруг него установлены три кольца охраны, состоящей из полутора тысяч солдат; на крыше ощетинились в небо вороненые стволы восемнадцати скорострельных пулеметов, предназначенных для защиты от аэростатов и цеппелинов.
В доме этом с недавних пор обосновался рыжеватый, невысокого роста полковник русской армии, занимающий две комнаты, одна из которых служит ему кабинетом, а вторая – спальней.
На людей, видевших его впервые, внешность полковника не производила особенного впечатления: был он до тоскливости обычен, говорил негромко, всегда спокойно, не раздражаясь. В обращении с окружающими был обходителен – порою даже до заискивания, которое, кстати, никогда не вызывалось нуждою или необходимостью.
Однако, в положении, какое занимал этот полковник, было нечто такое, что заставляло людей трепетать при одном его появлении, при малейших изменениях его настроения, чутко улавливать оттенки произносимых им казенных и безразличных слов.
Войдя в кабинет полковника, генерал Алексеев остановился у двери, ожидая приглашения пройти к столу. Но хозяин кабинета вышел из-за стола сам, ласково протянул гостю руку:
– Рад видеть вас в добром здравии, дорогой Михаил Васильевич, – сказал он тихо. – Что нового на фронте?
– На сегодняшнее утро существенных перемен, Николай Александрович, к сожалению, не отмечено, – успокоенный добрым приемом, Алексеев рискует величать полковника без титулов, только по имени-отчеству. – Я принес вам проект Указа, о котором имел честь беседовать с вами давеча.
– А, – словно припоминая что-то, полковник потер висок. – Уже подготовили? Столь быстро?
– Подготовили, Николай Александрович. Изволите подписать?
Плотный лист тяжелой гербовой бумаги ложится на зеленое сукно стола. Полковник долго смотрит на него, потом поднимает глаза на Алексеева:
– Орден Георгия Победоносца четвертой степени… Ведь это же самый высокий военный орден России. И удостоены его пока весьма и весьма немногие лица, не правда ли? И дается он, если только верить статусу, за выдающиеся воинские заслуги перед Отечеством, за беспримерную личную воинскую храбрость? Вот вы, генерал, кажется, до сих пор не имеете такого ордена?
– Не удостоен, – сухо кланяется Алексеев. – Не о моей скромной персоне речь…
– Да и сам я, – полковник подошел к окну. – И сам я получил его совсем недавно, лишь несколько дней назад. И то, – полковник понимающе усмехнулся, – и то исключительно благодаря такту и чуткости генерала Иванова. После моей поездки на передовые позиции у станции Клевень он буквально принудил Георгиевскую думу Юго-Западного фронта принять надлежащее письмо куда следует… Да вот же оно, оказывается, под рукой. Вот… "Через старейшего Георгиевского кавалера, генерал-адъютанта Н.И. Иванова повергнуть к стопам государя всеподданнейшую просьбу – оказать обожающим державного вождя войскам милость и радость, соизволив…" Гм, ну, и так далее, даже читать несколько неловко… Словом, по данному документу Георгиевским кавалером только что стал я сам. И тут вдруг… речь ведь идет всего лишь о сестре милосердия, не так ли, генерал?