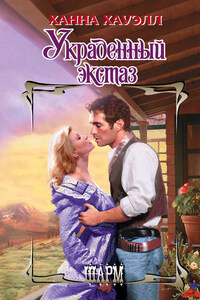Когда Ника очнулась, то долго не могла понять, где она и кто
рядом с ней. Через заплывшие глаза она смутно различала женское
лицо участливо склонившееся над нею. Но это была не Ивэ. Это лицо
повидало немало зим, и зимы эти были не легкими. Но горькую складку
у рта и выражение покорности незнакомого иссохшего лица,
уравновешивал, лучистый взгляд и тихое умиротворение. Его обрамлял
глухой чепец и накинутое поверх него покрывало. Незнакомка
осторожно подняла обвязанную чистыми повязками голову Ники, поднеся
к ее запекшимся губам глиняный край кружки. Напившись, Ника снова
погрузилась в сон.
Ей снилось, что бурный речной поток безжалостно проталкивает ее
безвольное тело через камни порогов и с силой бьет ее о них, а она
задыхаясь и захлебываясь в ледяной купели, старается вынырнуть на
поверхность, судорожно шлепая по воде руками и бестолково загребая
ими, пока стремнина реки швыряет ее из стороны в сторону.
Проснулась она ясным утром. Солнце щедро светило через небольшое
оконце под самым потолком, заливая лучами сухую комнатку с
побеленными стенами и темными тяжелыми потолочными балками.
Повернув голову на жесткой, соломенной подушке, Ника увидела еще
восемь кроватей, стоящих вдоль стен и лежащих на их жестких тюфяках
немощных людей. У кроватей хлопотали две женщины в длинных
монашеских одеждах. Расторопно, без суеты ухаживали они за
лежачими, умело переворачивая больных, меняя повязки на ранах,
смазывая струпья, обрабатывая гноящиеся раны, ласково утешая и
подбадривая. Даже когда им приходилось причинять боль, снимая
присохшую повязку и прочищать рану, выдержка не покидала
самоотверженных подвижниц, и они не повышая голоса, мягко и
терпеливо уговаривали страдальца потерпеть, какими бы мерзкими
словами этот страдалец не клял их, голося от боли.
Приподняв голову, Ника глянула в приоткрытую низкую дверь, за
которой оказалась точно такая же комната с больными, лежащими на
кроватях и даже на циновках, брошенных на пол. Но голова пошла
кругом, ее затошнило и она упала обратно на подушку, закрыв глаза,
что бы не видеть кружащихся над нею потолка и стен.
- Тебе еще рано подниматься, милая, - сказала, подошедшая к ней
монахиня. - Ты слишком слаба.
- Где, я? - прошептала Ника, едва ворочая языком.
- Ты в монастыре святого Асклепия.
- Святой? - пробормотала Ника, не открывая глаз и стараясь
преодолеть дурноту. - Разве он не был богом... врачевания?
- Нет, милая, он был человеком.
Ей на глаза лег влажный компресс, судя по запаху, из
мелиссы.
- На свете есть один бог - Вседержитель, - продолжал говорить
мягкий, тихий голос. - Асклепий же был человеком, жил праведно и
первый начал лечить людей, не прибегая к магии.
- Что со мной?
- У тебя разбита голова, все тело в ушибах, но хвала всем
святым, ничего не сломано. Ты поправишься.
- Как вас зовут?
- Зови меня, мать Петра. Я настоятельница монастыря, где ты
сейчас и находишься. А теперь позволь спросить тебя, откуда ты и
как тебя величать? Думаю, мы сможем послать весточку о тебе твоим
родным, чтобы не волновались и смогли забрать тебя, когда ты
поправишься.
- Я... я не знаю...
- Ну, ну... не волнуйся так, милая, - прохладная рука легла на
лоб Нике. - Такое часто бывает, когда получаешь сильный удар по
голове. Уверяю тебя, со временем, ты все вспомнишь.
- Да...
- Только не торопи и не принуждай себя к этому. Обещаешь мне,
милая?
- Да
Мать Петра покормила ее из ложки безвкусной, вязкой кашей и Ника
снова заснула. Теперь она, как и обещала настоятельница, приходила
в себя, набираясь сил. Ей было совестно лгать доброй монахине,
принявшей в ней участие и спасшей жизнь, но ни за что на свете, она
не хотела обнаруживать себя. Кто знает, может стоит ей произнести
свое имя и оно тут же будет услышано этим Гермини. И все то время,
когда она была вынуждена лежать на жестком тюфяке под тонким
шерстяным одеялом, она раздумывала как ей быть дальше и чем дольше
обдумывала свое нынешнее положение, тем тоскливее становилось. Ее
пугало, что отныне придется жить в этом мире, самостоятельно
пробиваясь в нем одной. Как она будет разыскивать и сможет ли
вообще, когда-нибудь, найти Зуффа? Но каждое утро, открывая глаза,
твердила себе словно заповедь: все что ни делается, все к лучшему и
она пробьется к своей цели.