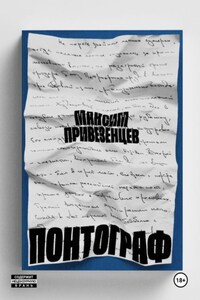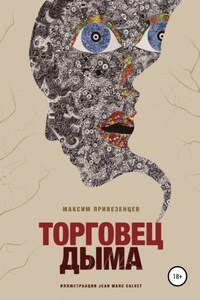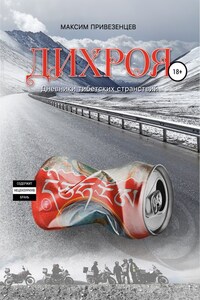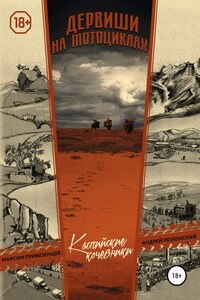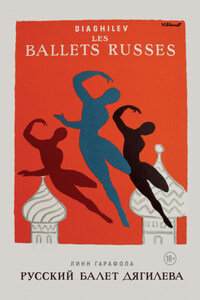Миша Лермонтов медленно поднялся вверх по лестнице, вошел в комнату на втором этаже и, закрыв за собой дверь, побрел к кровати.
«Глупый! – думал он про себя. – Чего, интересно, ты ждал? На что надеялся?..»
Усевшись на перину, Миша придвинулся к стене, оперся на нее спиной. Наверное, ему бы надлежало горевать, но он ощущал внутри себя лишь странную пустоту – будто из него вынули нечто важное, но вынули нечаянно, безо всякого намерения причинить боль.
«Хотя… может, я просто этого еще не понял?»
– Мишель? – послышался из-за двери женский голос. – Я могу войти?
Юноша промолчал, рассеянно глядя перед собой. Мысли путались в голове, – осознание случившегося по-прежнему не наступало.
– Может, все-таки ответишь? – нетерпеливо спросили из-за двери.
Юноша вздрогнул, и покусав губу, сказал:
– Прости, задумался…
– Так я войду?
– Конечно!
Дверь открылась, почти бесшумно ступая по паркету зашла Елизавета Алексеевна. Ей не было и шестидесяти, и казалась она значительно моложе своих лет; только две детали могли выдавать истинный возраст – белоснежно-седые локоны, выглядывающие из-под чепца, и усталые, выцветшие глаза, некогда бесконечно зеленые, точно луговая трава, пропитанная утренней росой.
– Так что случилось, Мишель? – участливо спросила бабушка.
Юноша посмотрел на нее исподлобья, и она против воли на мгновение скривила губы. Тому виной служили его красивые карие глаза – наследие рода «Лермантов», столь нелюбимого Елизаветой Алексеевной. Ничего во внешности внука больше так не смущало бабушку, хотя, вот ведь ирония, это была единственная приятная деталь во всем портрете юноши. Огромная голова, широкий лоб и острые скулы, вздернутый кверху нос… Миша не был красив, но, поскольку все свои характерные черты унаследовал от покойной матери, Елизавета Алексеевна любила их в нем – они напоминали ей о дочери.
Сделав вид, что не заметил мимолетной гримасы бабушки, Миша пожал плечами. Елизавета Алексеевна, шумно вздохнув, подошла к кровати и опустилась на перину рядом с внуком. Некоторое время они молчали – бабушка смотрела на Мишу, а тот – в сторону, избегая ее взгляда. Говорить юноша не желал; собственно, он вообще ничего не желал в те минуты – кроме, разве что, не оставаться в комнате наедине со своими мыслями. Посидеть бы еще вот так, не издавая ни звука, но понимая, что подле тебя есть кто-то еще, слышать дыхание, улавливать взор…
– Это все из-за Натальи? – спросила Елизавета Алексеевна.
Миша нехотя покосился в сторону бабушки, снова неопределенно повел плечом, но вопрос ее, кажется, был скорей риторический, поскольку она тут же с теплой улыбкой произнесла:
– Ну полноте, мой соколик! Наталия, конечно же, мила и хороша собой, но не обязательно ведь она – та самая, единственная, по которой стоит лить слезы?
– А я и не лью, – тихо, но без тени волнения ответил внук.
Елизавета Алексеевна коснулась его плеча:
– Я вижу, мой черноокий. И знаю, что не будешь, ты не из таких… но тревожусь, чтобы ты не стал все прятать в себе, чтобы не закрылся от меня…
– Не тревожься, – ответил юноша. – Для выражения эмоций у меня всегда есть перо, чернила и тетрадь.
– И верно… – помедлив, пробормотала Елизавета Алексеевна. – Как я могу забыть…
Видя, что ей неприятно упоминание тетради со стихами, Миша отвернулся к окну прямо над письменным столом, обтянутым сукном. Снаружи, наконец, распогодилось: утром лил дождь, бесчинствовал ветер, но теперь природа постепенно успокаивалась, выглянуло солнце, и о былом буйстве стихии напоминала лишь прохлада да клочки серых туч, хаотично разбросанные по небу. Юноша подумал, что ему неистово хочется оказаться как можно дальше от усадьбы Середниково и всех мирских переживаний – от бабушкиного недовольства, связанного с его увлечением поэзией, от Наташи, которая заставила его сердце пылать, сначала грея душу робкой надеждой, а позже беспощадно истребляя веру в счастливый исход…