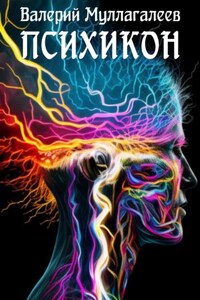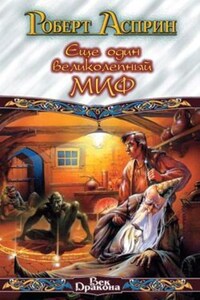За окном серая и зябкая дымка рассвета таяла под солнечными лучами, несущими сонному городу тепло и краски. К пению утренних птиц постепенно примешивался многоголосый людской гул, монотонный, лишь изредка прорезаемый возгласами приветствий и окликов. По окну пронеслась тень сорвавшейся с крыши стайки голубей – пекарь высыпал с подноса крошки. Цокот копыт по брусчатке оповестил о проезжающей мимо почтовой карете, кучер протяжно зевнул и передернул плечами от еще прохладного воздуха.
Мало того что парадная рубашка пахла дальним углом платяного шкафа, так еще и рукава оказались не по размеру и упрямо не показывались из-под манжет пиджака. Предстать в таком виде перед уважаемыми людьми, конечно, неприлично. Кажется, последний раз он надевал эту сорочку на вступительные экзамены. Пять лет назад рубашка выглядела лучше, а он – хуже.
Теперь ее надевает не хлипкий школяр, а молодой мужчина, по прежнему худой, но складный и с прямой осанкой. Уложенные к затылку каштановые волосы вьются, словно корни бука. Вопреки моде, бакенбарды и усы сбриты, однако желанная борода пока не проявилась.
Сегодня предстоит доказать, что за университетские годы он прибавил не только в росте, но и в знаниях. На этот счет Ноланд не беспокоился – окажись на месте коротковатой рубашки его былое мировоззрение, оно вовсе треснуло бы по швам. Университет и книги отцовской библиотеки влили в него столько знаний, что экзамены он всегда воспринимал не иначе как удачную возможность выговориться, выплеснуть накопленную информацию и собственные размышления.
Однажды на одном из первых экзаменов преподаватель остановил его на середине ответа и поставил максимальный балл, а Ноланд попросил дать ему закончить – не зря же готовился! Кислая улыбка преподавателя и ропот студентов обескуражили. Только потом он осознал, насколько нелепа была просьба.
Лучше надеть на экзамен повседневную одежду, тогда ничто не станет отвлекать и вызывать дискомфорт. Ноланд облачился в коричневый твидовый костюм с простой белой рубашкой. Так он внешне ничем не отличался от сотен других горожан, собравшихся в то утро на службу или по делам. Что же касается внутреннего содержания – мыслей и, особенно, мечтаний, – то вряд ли во всем Хельдене можно было найти другого подобного юношу.
Наконец Ноланд взял бутылек из темного стекла и, пшикнув перед собой, вошел в ароматное облачко. Любимый одеколон отца – "Вечный странник": с бодрыми нотами гвоздики, бергамота, мускуса и с чем-то более сладким, напоминающим цветущий луг летним полднем. "Добротный баргенский парфюм, – говорил отец, – хотя луарские снобы считают его банальным".
Поднимаясь к дяде в кабинет, Ноланд чуть не столкнулся с Вальтером. Тот спускался по лестнице необычно быстро, перебирая ногами ступеньки так резво, словно не разменял недавно седьмой десяток. Глаза напряженно смотрят в пол, между бровями собрались вертикальные морщины, будто Вальтер с утра пораньше решил подсчитать в уме годовой бюджет имения.
– Доброе утро, Вальтер, – сказал Ноланд. – Дядя у себя? Что на завтрак?
Вальтер остановился и посмотрел на него широко раскрытыми глазами. После паузы, уже ставшей неестественной, он поздоровался и сказал:
– Я думал ответить что-нибудь остроумное, но ничего на ум не приходит. Завтрак не приготовил, извини. Я здесь больше не работаю.
С этими словами он поспешно продолжил спуск. Ноланд проводил Вальтера взглядом, пока тот не скрылся в прихожей. Хлопнула входная дверь, и стало тихо.
Дядя Альфред сидел за письменным столом и покусывал губы. Обильно поседевшие волосы спутались, будто ком тополиного пуха. Перед ним лежала стопка деловых писем и несколько сломанных перьев. Пахло дешевым табаком. Когда скрипнула половица, дядя вскинул глаза и привстал в кресле, но, увидев Ноланда, рухнул на место и вздохнул.