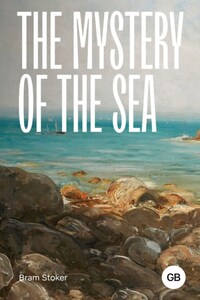Все было в точности как наяву: даже не верилось, что это уже происходило прежде, – и тем не менее эпизоды сменяли друг друга в соответствии с моими ожиданиями, а не сообразно некой неведомой логике событий. Таким образом шутит с нами память – во благо или во вред, к радости или печали, счастью или горю. Вот почему жизнь наша горько-сладкая, и все, что однажды свершилось, становится вечным.
Вновь легкий ялик, замедлив резвый бег по недвижной воде под мерные движения весел, скользнул в прохладную тень плакучей ивы, прочь от жгучего июльского солнца. Я стоял в плавно качавшейся лодке, а она тихо сидела, проворными пальцами отводя от себя упругие, вольно колыхавшиеся ветви. Вновь вода под сквозистым лиственным пологом отливала темным золотом, а травяной берег был изумрудным. Вновь сидели мы в прохладной тени, и мириады природных звуков снаружи и внутри нашего нерукотворного зеленого шатра сливались в дремотный гул, заставлявший забыть об огромном мире со всеми его тревожными горестями и еще более тревожными радостями. Вновь в этом блаженном уединении юная девушка, отбросив чинную сдержанность, привитую строгим воспитанием, откровенно и задумчиво поведала мне о своей новой, исполненной одиночества жизни. С затаенной грустью она рассказала, что все слуги в их большом доме держатся замкнуто, трепеща перед ее отцом и ею самой, что доверие там не в цене и сочувствие не в почете и что даже лицо отца кажется ей чужим и далеким, таким же далеким, как былые дни, проведенные в деревне. Вновь все мое зрелое благоразумие и весь мой жизненный опыт легли к ногам милой девушки, причем это вышло как бы само собой, поскольку мое сознательное «я» ничего не решало и лишь подчинялось властным приказам. И вновь бесконечно множились быстролетные мгновения, ибо в таинственном мире сновидений различные реальности сливаются и обновляются, изменяясь, но все же оставаясь прежними подобно душе композитора, вложенной в фугу. Так и память моя во сне все длила и длила пьянящий восторг.
Похоже, совершенного покоя не обрести нигде. Даже в Эдеме змей вздымает голову средь отягченных плодами ветвей Древа Познания. Тишину безмятежной ночи вдруг нарушают грохот лавины, зловещий гул внезапного наводнения, колокол паровоза, проносящегося через спящий американский городок, мерный шум пароходных колес в море… Что бы это ни было, это разрушает чары моего Эдема. Зеленый полог над нами, пронизанный алмазными иглами света, дрожит от непрестанного стука лопастей, и паровозный колокол, кажется, никогда не умолкнет…
Внезапно врата сна широко распахнулись, и мой пробудившийся слух распознал природу назойливых звуков. Явь всегда прозаична: кто-то стучал и звонил в чью-то наружную дверь.
В своих комнатах на Джермин-стрит я уже вполне привык к посторонним звукам, и дела моих соседей, сколь угодно шумные, нимало не беспокоили меня ни днем ни ночью, но этот шум был слишком продолжительным и слишком требовательным, чтобы оставить его без внимания. Он свидетельствовал о настойчивой воле, побуждаемой какой-то срочной необходимостью. Я не был законченным эгоистом и при мысли о чьей-то неотложной потребности без лишних раздумий встал с постели. Машинально я взглянул на часы: стрелки показывали ровно три, и по краям плотной зеленой шторы на окне уже растекался смутный серый свет. Теперь стало ясно, что стучат и звонят в дверь именно нашего дома, а также что все его обитатели крепко спят и ничего не слышат. Накинув халат и всунув ноги в домашние туфли, я спустился к входной двери. Отворив ее, я увидел щегольски одетого грума, который одной рукой упорно давил на кнопку электрического звонка, а другой непрерывно колотил дверным молотком. При виде меня он тотчас прекратил стучать и трезвонить, привычным жестом коснулся края шляпы и извлек из кармана письмо. Прямо напротив входа стояла изящная карета; лошади дышали тяжело и часто, как после быстрой скачки. Привлеченный шумом, рядом остановился полисмен с зажженным фонарем на поясе.