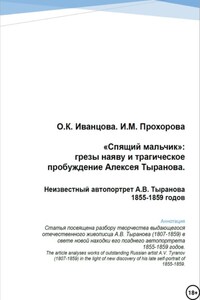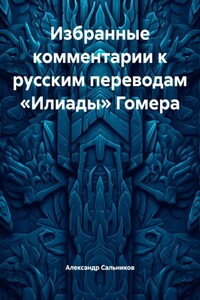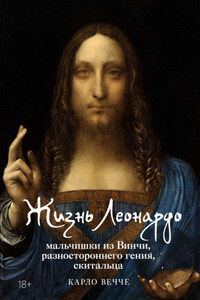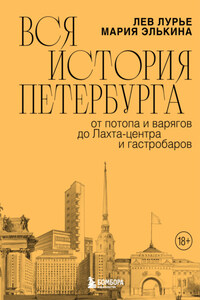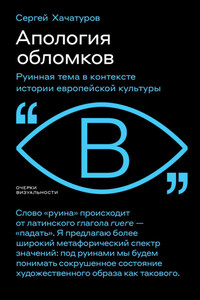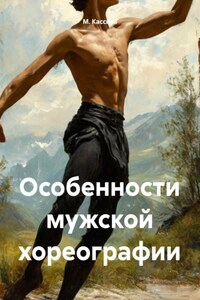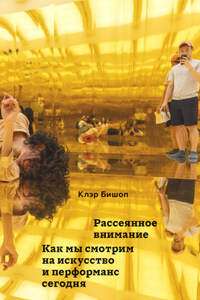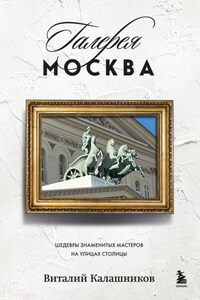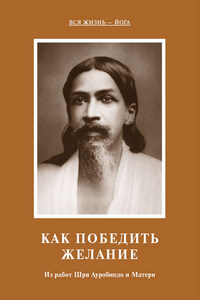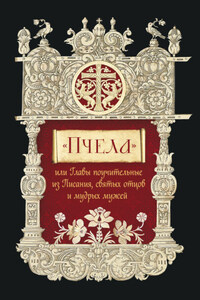[А. В. Тыранов. Автопортрет]. Холст. Масло. 102 см на 82 см. [1855–1859]. Частная коллекция авторов. Фото из личного архива авторов
Это тот самый А. В. Тыранов, о котором В. Г. Белинский писал, что если вы посмотрите в зеркало, то увидите там только себя; но если же вас нарисуют Брюллов или Тыранов, то увидите там то, что не заметило даже зеркало. Но многие ли из нас сегодня знают имя Алексея Васильевича Тыранова (1807–1859)?
При упоминании имен двух звезд первой величины на небосклоне российской живописи первой половины 19 века А. Г. Венецианова (1780–1847) и К. П. Брюллова (1799–1852) узнавание будет мгновенным, но с Алексеем Тырановым такого не произойдет. А между тем, по признанию как первого корифея русской живописи, так и второго, именно он и являлся одним из наиболее одаренных их учеников. Тыранов был самым способным и в дальнейшем самым известным учеником Венецианова; самым «перспективным» его считал и Брюллов. И это справедливо: было время, когда его имя произносилось рядом с именем Венецианова, даже рядом с именем «Великого Карла» (Брюллова). Современники высоко ценили его работы, призывали «заменить» рано умершего О. А. Кипренского.
Неподкупный и «неистовый Виссарион», В. Г. Белинский, также его современник, в своей статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», выступая против поверхностного подхода к изображению человека, ссылался на Тыранова: «Обыкновенный живописец сделал очень сходно портрет вашего знакомого… а все как-то недовольны им, вам кажется, будто он и похож на свой оригинал, и не похож на него… Но пусть с него же снимет портрет Тыранов или Брюллов – и вам покажется, что зеркало далеко не так верно повторяет образ нашего знакомого, как этот портрет, потому что это будет уже не только портрет, но и художественное произведение, в котором схвачено не одно внешнее сходство, но вся душа оригинала. Итак, верно списывать с действительности может только талант».
«Он был живописцем людей города, завален заказами, чествуем и восхваляем, – писали о нем в газетах. – Около его картин было такое стечение публики, что не было возможности проходить мимо». В конце 1830 – начале 40-х годов 19 века Тыранов находился в расцвете творческих сил и стоял в ряду лучших портретистов; но затем был незаслуженно забыт. Во многом забвение было вызвано личностным кризисом художника, закончившимся трагически и рано оборвавшим его творческий путь.
Во многом этому способствовали и наши отечественные искусствоведы, традиционно рассматривающие историю российской живописи первой половины 19 века через призму противопоставления «венициановцев» и «брюлловцев», и оттеснившие Тыранова на периферию. Эта традиция рассмотрения истории отечественной живописи через столкновение этих направлений, идущих от двух величайших мастеров первой половины 19 века, заложенная еще современниками, а позже закрепленная в работах А. Бенуа и других, перекочевала и в современные искусствоведческие исследования. Между тем, Тыранова нельзя однозначно причислить в «чистом виде» ни к одному из этих направлений: он сделал попытку синтезировать лучшее, что было и у одного, и у другого; и только личная трагедия не дала возможность нам увидеть конечный результат уже реализованного синтеза.
Так или иначе, по той или же по другой причине, но Тыранов был надолго забыт; забыт даже как «художник второй руки». Еще лет сорок назад его имя было знакомо лишь искусствоведам, отчасти такое положение сохраняется и сейчас. В литературе художник упоминался лишь как ученик Венецианова да последователь Брюллова и Кипренского. Его картины долгие годы пребывали в безвестности в музейных запасниках, были разбросаны по частным собраниям: они мало кого интересовали, никем не изучались, да и считалось, что их осталось немного. Некоторые произведения Тыранова издавна причислялись к работам других художников, или же относились к письму неизвестных авторов.